На другой день я проснулся очень рано и увидел арестанта, подметавшего пол. Меня удивило это и обрадовало: в черниговской тюрьме в камеру мою, кроме смотрителя и жандармов, не входила ни одна душа.
-- Чаю не угодно-ли?-- спросил арестант.
-- А можно?
-- Если есть свой чай и сахар.
-- Есть. Я пойду "по надобности".
-- Сколько угодно. Может, по двору желаете прогуляться?
-- Разве это дозволяется?
-- Конечно, только нужно позвать "подчаска".
-- Сначала я напьюсь чаю, а потом уже. Здесь, кроме меня, есть еще "политические?".
-- Двое сидят.
-- Заперты?
-- Можно отпереть.
Вскоре я уже обнимался с неизвестными товарищами по заключению, которые, как я потом узнал, были через некоторое время выпущены на свободу; они привлекались по местным делам и оба понравились мне, хотя не походили друг на друга совершенно: Х -- довольно плотный брюнет, красивый мужчина, лет 27--28, с открытым лицом -- тип интеллигентного великоросса; он привлекался, как человек, находивший социализм в основе христианства и пропагандировавший в этом направлении; Z -- худой, тощий с украинскими чертами лица, вечно добродушной улыбкой; говорил он басом и на первый раз казался даже "страшным", но стоило только заговорить с ним, чтобы увидеть в этом человеке безграничную доброту, честность, крайний альтруизм. Он привлекался за пропаганду. X и Z приняли меня как нельзя более радушно, рассказали, кто проезжал через эту тюрьму и что я отправлюсь скоро в Мценск, откуда в Восточную Сибирь. Я приободрился,-- воспоминание о Сибири как рукой сняло: за 9 месяцев я в первый раз говорил с людьми, которых нечего было бояться, с которыми можно было поделиться горем и радостями. Понять это может только тот, кто просидел продолжительное время исключительно в сообществе шпионов, начальства и жандармов, которые ловят каждое слово, каждый звук, каждый взгляд, чтобы "проникнуть" и "упечь". О, какое это тяжелое, невыносимое, пошлое состояние!
-- Вчера из вашей камеры увезли троих: их надписи есть на печке.
Пошли в мою камеру, и я действительно прочел: Янковский, Калюжный, Якубович.
-- Двое,-- пояснили товарищи, -- Янковский и Калюжный,-- были обриты и в кандалах... Ужасное впечатление!
-- Боже мой! Неужели? Какое их состояние духа?
-- Ничего, так себе.... Янковский ничего еще, но Калюжный чувствует себя нехорошо.
Слово за слово, мы разговорились, так что я уже и прогуливаться не хотел; напились вместе "солдатского" чайку, потом поели "арестантских" щей с протухлой кашею и опять чайку выпили. Только под вечер X и Z посоветовали мне "подышать свежим воздухом". В камере и в коридоре, а особенно в отхожем месте, воздух был невозможный, миазматический, и я, когда явился "подчасок", то-есть солдат без ружья, в отличие от "часового" с ружьем, пошел прогуляться.
На громадном, обнесенном каменною стеною дворе орловского замка прогуливалась масса арестантов, бряцая кандалами и тщательно закрывая шапками обритую часть головы. Кандалы и бритые головы производили такое гнетущее впечатление, что я хотел уйти уже в свою камеру, но потом, победив себя, начал гулять по дозволенному подпаском пространству и наблюдать, по возможности, жизнь этих "униженных и оскорбленных". В черниговском замке не было ничего подобного,-- там кандалы -- событие, исключительный случай, здесь -- редкий без кандалов и бритой головы. Орловский замок служил пунктом для многих сотен душ каторжников, отправляющихся отсюда прямо в Сибирь.

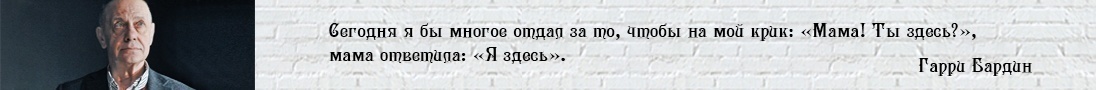











 Свободное копирование
Свободное копирование