|
|
Валентин прожил у меня несколько лет и, может быть, прожил бы еще долго, если б я не переменил род службы и отчасти образ жизни. Я стал большую часть дня, а иногда и вечера, заниматься дома. Оказалось, что это стесняло его. Я никогда не справлялся, как он проводит время без меня, а теперь мне открыт был каждый его шаг. "Землячки" не могли бывать у него свободно при мне -- и он оставался больше один и скучал. Повидимому, они без меня посещали его часто. Мало-помалу открылось, что он отчаянный донжуан, несмотря на свои пятьдесят лет с лишком. Склонность его к нежному полу проявлялась и прежде, но слегка. Когда у меня бывали в гостях дамы, особенно молодые и красивые, он как-то суетливо лебезил, подавая чай, фрукты, кокетливо поджимал ножку, шаркал, приподнимался на цыпочках, чтоб придать себе росту, взглядывал мимоходом в зеркало, украдкой зачесывал пальцами волосы с затылка. Я перемигивался с гостьями, и мы нередко награждали эти маневры дружным хохотом. Тогда он злобно краснел и бросал на нас гневные взгляды. Однажды, воротясь домой и найдя дверь запертою, я сошел вниз спросить у дворников, где он, и, заметив около каретного сарая -- кучку дворни, особенно женщин, пошел туда. И что же вижу: Валентин стоит посреди сарая, закинув голову вверх, разряженный в желтые нанковые панталоны, черную плисовую жакетку, в розовом галстуке и с желтым цветком в петлице, поет: Во селе-селее Покроо-вском, Среди уу-лицы большой... Разыграа-лись, раа-сплясались Девки краа-сны меж соо-бой... -- разливался он сладким тенором, закатывая глаза под лоб, разводя далеко в стороны руками и притопывая. Все смотрели на него с улыбкой, девушки с неудержимым хохотом. А он глядел на них сладостно, как сатир. Я тоже захохотал. Увидав меня, он сконфузился, застыдился и опрометью бросился вперед меня домой. -- Что это тебе вздумалось петь среди дворни? -- спросил я. -- Барышни просили, -- сказал он, -- я хотел сделать им удовольствие... -- Какие барышни? -- А те самые, что там стояли. Это горничные. -- Да ведь они помирали со смеху над тобой: разве ты не заметил? Глядя на него в его изысканном наряде, я опять невольно засмеялся. -- Они смеялись от удовольствия, а вот вы, сударь, не знаете сами, чему смеетесь! Нельзя повеселиться человеку: разве это грех? -- Веселись сколько хочешь -- это даже иногда нужно, здорово... Я не упрекаю тебя. Я опять засмеялся. -- Чему ж вы смеетесь? -- оказал он с сердцем и ушел к себе. |

|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|

|
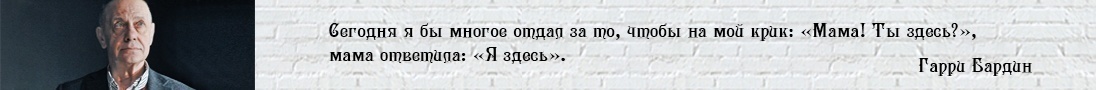











 Свободное копирование
Свободное копирование