У нас был один парнишка, звали его Аркадий. Он был поэтом, из Москвы. Его сочли опасным, так как он примыкал к подпольной группе антисоветчиков. Он отличался неиссякаемым чувством юмора и неуемным талантом по высмеиванию своих мучителей. В результате в лагере ему постоянно доставалось, и он провел много дней в морозильнике одиночного карцера в БУРе.
В Аркадии я сразу почувствовал родную мне душу. Я звал его «мальчик» – хотя он и был на год или два старше меня, ему было двадцать-семь или восемь – по причине его ребяческого энтузиазма и чувства юмора, что оставались с ним до самого дня его смерти.
Он был из числа тех молодых диссидентов конца сороковых, что попали в сети органов с широко раскрытыми удивленными глазами. Он сочинял едкие сатирические стихи о режиме и его лидере, которые передавались из рук в руки. Для любого другого это показалось бы чистым самоубийством. Для Аркадия же это было единственным, что он мог делать для того, чтобы сражаться с несправедливостью и отсутствием гуманности – насажденным, как он был убежден, в его мире. Он любил Россию – но не то, что происходило с ней.
Когда его перевели к нам из БУРа, у него развилось двустороннее воспаление легких. Мы не имели возможности произвести хирургическое вмешательство при абсцессе легкого, и у нас не было антибиотиков, кроме сульфата. Он увядал с каждым днем, но несмотря на это был жизнерадостен, постоянно писал новые стихи – любовные стихи, стихи о людях, лежавших в палате, стихи о светлом будущем.
У Аркадия было веснушчатое лицо, что редкость для русского. Он был долговязым парнем, любившим фланировать по палате в своем тюремном нижнем белье, из-под которого торчали костлявые колени, декламируя стихи и рассказывая анекдоты. По ночам мы часами сидели вместе. Я приносил ему охлаждающую повязку на лоб. У него был постоянный жар, и его бил кашель, выносивший огромное количество зловонной зеленоватой жижи из его груди. В его дыхании всегда присутствовал тяжелый запах разложения. Но я любил этого парня. Мы садились рядом и болтали о том, каким мог бы стать мир, если бы все народы доверили свои судьбы парламентской демократии. Он считал, что это могло бы работать в Советском Союзе, хотя для этого потребуется долгое время и значительные усилия в области просвещения. Я раздобыл немного хорошей белой бумаги для Аркадия и сложил ее в форме книги, и он наполнил ее стихами – частью своими, частью теми, что помнил наизусть, авторства своих любимых русских поэтов, например, Гумилева. Мне нравилась поэма Гумилева «Капитаны» - о пиратах, морских волках, что жили за счет своей отваги и своего мастерства. Аркадий любил читать эту поэму мне, вслух, в перерывах между спазмами.
Он также писал стихи по-французски, а потом переводил их мне. Я помню романтическую балладу Ильи Сельвинского о римлянке, к которой приводили рабов в качестве любовников, а затем казнили, и она хранила их головы в качестве сувениров. Все это, конечно, относилось декадентской поэзии, по современным советским стандартам. Гумилева расстреляли в 1921 году.
Адарич сказал мне, что выжить Аркадию не суждено. Думаю, что Аркадий и сам знал это, про себя; он этого никогда не показывал. В другом лагере, неподалеку от нашего, был специалист по грудной хирургии, испанец, которого звали Фустер. Он мог бы сделать операцию – и одной из тех немногих причин, по которым я возненавидел Лавренова, стал его отказ от перевода Аркадия в тот лагерь. В течение четырех месяцев он постепенно уходил от нас, а мы наблюдали за этим и не могли ничего поделать. Четыре месяца пребывания по ночам рядом с его кроватью – вынося емкость с вонючей мокротой, стараясь снять его жар, наблюдая его постоянно смеющийся рот, каждые пару минут перекашивающийся от нового спазма.
Однажды он мечтательно произнес: «Как бы мне хотелось поесть лука!»
На протяжении всех этих четырех лет я ни разу не видел репчатого лука. Но каким-то образом, через дружественного мне охранника, через друзей Аркадия по всему лагерю (его хорошо знали), мы раздобыли несколько ярко-зеленых весенних луковиц. Он был в восторге.
Аркадий очень слаб. Я при первой возможности вводил ему, внутривенно, дополнительное количество глюкозы и спиртового раствора из ампул. Это помогало сбивать жар и давало ему больше сил, чтобы дышать – но воспаление в легком душило его, и мы оба понимали это. Однажды ночью я сидел подле него на краю койки. Мы не разговаривали – ему не хватало дыхания.
Он смог проговорить: «Ты не мог бы приподнять меня? Не могу дышать».
Я согнулся, положил его руки себе на плечи и бережно приподнял его в сидячее положение. Он указал на маленькую санитарную утку. Я поднес ее к его лицу, и он туда откашлялся. В емкости оказалось порядка ста кубиков вонючей жижи.
«Ну вот, давай-ка я уложу тебя, и потом схожу, вынесу это», - сказал я.
Он просто кивнул. Я осторожно положил его обратно.
Когда я вернулся, то снова присел и сказал: «Ну что, Аркадий, хочешь поспать теперь? Я отойду, и вернусь через часик проведать тебя снова, хорошо?»
Он не отвечал. Я согнулся, чтобы подтянуть одеяло ближе к его подбородку. Внезапно я понял, что не чувствую зловонного запаха от его дыхания. Я приложил руку к его груди. Она была неподвижна. Я открыл веко – зрачок был сильно расширен. Я нажал на него со стороны нижнего века. Образовался овал – как у глаза кошки. Аркадий был мертв.
Я произнес: «Это смерть героя, но у меня нет возможности отдать ему почести».
Он умер, потому что верил в нечто прекрасное и отказался скрывать это или заключать со своей верой сделку. Я не мог и представить чего-то лучшего.
Я вышел наружу, за стену морга. На дежурстве у госпиталя находился дружественно настроенный охранник, и он не возражал, если кто-то из нас решал немного прогуляться ночью, при условии, что мы были неподалеку. Позади морга имелась тень, куда не попадал свет прожекторов с вышек. Я мог побыть там наедине со своими мыслями. И увидеть звезды. Кто-то в лагере показал мне, где находится Сириус, и я решил, что это будет моя личная звезда. Я взглянул вверх, и сказал «до свидания» Аркадию - куда-то в звездную даль. Я представил себе звезду, движущуюся на запад, в сторону Америки. Попытался вспомнить лицо Мери. Но оно было слишком далеко. Попытался вспомнить свои собственные мысли четыре года назад. Всего четыре года? Я взрослел слишком быстро. На моих глазах случилось столько смертей. Где он, тот беспечный американский парень, которым я был когда-то? Я почувствовал горечь – как что-то глубокое, жгучее, в области желудка. Мне хотелось побыть в состоянии некого мира, в котором я мог бы ощущать эту горечь; мне не хотелось, чтобы она уходила – это было правильное чувство, необходимое мне в тот момент. Мне просто хотелось пребывать в покое с этим чувством – но я не мог ощутить покой, потому что в сотне метров от меня на вышке был человек, вооруженный автоматом с семьюдесятью двумя пулями «думдум» в своем изогнутом магазине, и я не мог обрести покой, находясь так близко к этой огромной силе, несущей смерть.
Я отчаянно жаждал любить живых. Но один из тех, кого я любил, только что умер, а другая была так далека, что ее лицо теряло очертания в моей памяти.
Я вернулся обратно.
На следующий день Адарич попросил меня со вскрытием Аркадия. Я только помотал головой и быстро вышел из комнаты.
И вот странная деталь, имеющая отношение к человеческой памяти. В течение двадцати лет я никогда не произносил имени Аркадия и никогда не вспоминал о нем. Образ этого мужественного молодого человека внезапно пришел ко мне из небытия, в то время как я работал над тем, чтобы воскресить в памяти дни и ночи в том госпитале в Джезказгане. И прошло еще немалое время, прежде чем я, восстановив всю эту историю, вспомнив стихи, ночи в палате и детали его смерти, вспомнил и его имя. Вот что ужасная боль может сотворить с памятью.

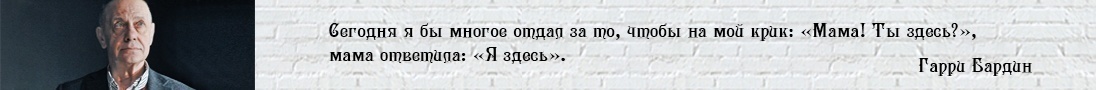











 Свободное копирование
Свободное копирование