01.10.1952
Джезказган (Жезказган), Казахстан, Казахстан
Несмотря на все то здоровое и положительное, что принес мне период моего пребывания госпитале – касательно укрепления моего физического здоровья и моего роста как личности, в плане освоения новых навыков, и взросления, пришедшего вместе с ответственностью за жизни других людей, а также по причине пребывания в кампании увлеченных и человечных профессионалов своего дела, таких как Евгений Петрович Адарич, или удивительно человечных и простых, таких как Нерусский, который сидел у постели больных ночами напролет, в то время, как время его дежурства закончилось, нежно массируя лоб страдающих от боли, успокаивая, таская на себе парализованных до туалета, беря на себя часть чужого отчаяния – несмотря на все это мои воспоминая, когда я стараюсь сбалансировать их, чтобы они были точными и правдивыми, приносят мне чувство горечи. В то время моя душа в определенной степени огрубела, чтобы защитить себя. Но горечь иногда прорывалась через все выстроенные мной барьеры, и это было тяжело.
Я вспоминаю всех тех, кто так и не смог вернуться к своим семьям, кто умер в слезах одиночества. Всеобъемлющее, космическое одиночество отпечаталось на их лицах.
В четвертой палате лежали кардиологические пациенты. Мы мало что могли сделать для их лечения. Уровень смертности был очень высок. Каждые несколько дней кого-то клали на койку только что умершего человека, и наблюдать за теми мучениями и тем страхом, что приходили к этому новому человеку вместе с этой койкой, было ужасно. Все это ускоряло смерть.
Раковые больные страдали ужасно. Расход морфия у нас был ограничен, его нужно было экономить ради поступающих в течение дня ходячих травмированных пациентов с чрезвычайно острыми болями. А здесь мы просто давали аспирин или легкие седативные препараты, и поэтому палата раковых больных была пространством, наполненным болью. В то время я начал потихоньку откладывать раздобытые тайком ампулы морфия – даже Адарич не знал об этом. Когда раковый больной вплотную подходил к смерти, и боль становилась непереносимой, я брал одну или две ампулы из своего личного запаса и тихо вкалывал их в бедную агонизирующую душу. Потом я сидел ночью у постели, гладил руку и приговаривал: «Вот так. Боль скоро уйдет. Скоро вам станет намного лучше», - час за часом.
Я привык к тому, чтобы чувствовать в своей руке руку человека, переходящего из жизни в смерть. Рука в моей руке.
И в то же время, когда я сидел вот так вот с кем-то из этих умирающих людей, пытаясь хоть немного облегчить страдания, я знал, что по всему Джезказгану в это время умирают люди – в одиночестве. В конвоях, вываливаясь из своего ряда – чтобы умереть, и чтобы идущие сзади такие же, как и они, рабы, вынуждены были спотыкаться об их тела. В карцерах – без какого-либо человеческого контакта или сочувствия. Или вися на колючей проволоке, с пулями в груди. Лежа на нарах в бараках всего в нескольких десятках метров от меня – просто потому, что в маленьком госпитале для них не нашлось места. Я знал, что большинство этих мужчин, почти все они, могли бы жить какой-то жизнью с другими людьми. Растить детей, любить жен, делать какую-то работу, в которой бы они находили удовлетворение. Принимать какие-то решения относительно того, куда идти в своей жизни. Они могли бы делать это все – если бы не государство, которому требовался их рабский труд и которое создало тщательно разработанную машину по созданию преступлений там, где никаких преступлений не существовало. Почти никто из тех, кого я знал, кто умер или жил в Джезказгане, не совершил ничего такого, что бы подпадало под действие закона любой страны с демократически избранным парламентом и традицией лояльности к инакомыслию. Это все были невиновные люди. Я считал их смерти убийством – умерли ли они от пули, горячки, рака или отчаяния.
16.04.2022 в 12:19
|

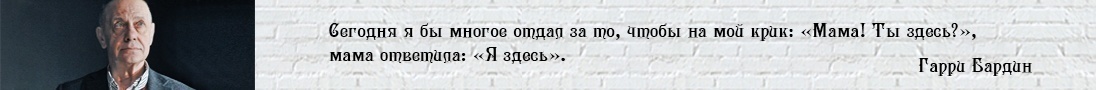











 Свободное копирование
Свободное копирование