01.03.1950
Москва, Московская, Россия
По мере того, как шло время, я становился для Кожухова все более и более бесполезен – как в качестве жертвы его садизма, так и в качестве источника информации. По причине того, что я терял сознание все чаще, он мог закончить допрос в час или два ночи, и мне позволяли спать до шести. А затем, незадолго до шести, я слышал, как вели с допросов других людей – одни из них кричали и молили о снисхождении и помощи, некоторые стонали, другие молчали, еще одни – судя по слабым звукам волочения – сами идти уже не могли. Я знал, что это означает. Это были кто-то вроде меня.
Один мужчина, который много стонал и кричал, находился в камере наискосок от моей. Однажды субботним вечером, когда я собирался отдохнуть и поспать долгим сном и провести следующий день без Кожухова, внезапно я услышал глухой топот ботинок по ковру, а затем шепот множества голосов. Потом я услышал, как дверь камеры резко распахнулась, и наступила тишина. Затем громкий голос произнес: «Принесите носилки! Быстро!»
Потом послышались звуки еще большего количества ног, шарканье, и через некоторое время раздраженный шепот: «Нет! Дурак! Так в дверь не войдет. Переверни. В эту сторону поворачивай! Боже, ну и месиво. Нет! Нет! Поднимай его с боков. Ну и месиво!» И так далее. Я напряженно прислушивался у двери, отходя от нее только в тот момент, когда слышал мягкий звук шагов приближающегося охранника, шедшего посмотреть в глазок, а потом снова льнул к ней, стараясь услышать все, что возможно. Судя по слабым неопределенным звукам, дверь камеры несколько раз открывалась и закрывалась. Потом послышалось, как плеснули воды, и через некоторое время – тишина.
Я стоял у двери, чтобы услышать объяснение. Оно пришло, вероятно, несколькими часами позже, я не могу сказать точнее, когда охранник моего блока сделал перерыв на пару минут в своей скучной рутинной работе и приоткрыл дверь в соседний блок, чтобы пошептаться со своим коллегой. Я смог ухватить всего несколько слов. «Казалось, все в порядке… стоял лицом к двери… тишина… что случилось? …. Кровь кругом…» Я решил, что это было самоубийство.
Теперь я начал раздумывать о своем собственном самоубийстве. Хотя по причине частых полных обмороков я, вероятно, спал больше, чем когда был в Лефортово, но горячка и микроскопические порции еды медленно вымывали из меня все мои физические силы, а с ними и волю сопротивляться. А это было главным критерием, который я выработал для себя – если моя воля меня оставит, то это значит, что пришло время умирать. Шепот охранников по поводу моего неизвестного соседа взвинтил мои нервы. Из-за услышанного я потерял уверенность в своей способности убить себя – не по причине недостатка смелости совершить сам акт, а в результате физической неспособности. Я не был уверен в своей силе и координации – в том, что смогу сделать все как надо и не напортачить, как тот заключенный, про которого я читал где-то раньше: он бросился вниз не с той высоты и сумел только выбить себе глаза и сломать шею, так что еще много лет потом он жил, оставаясь слепым, парализованным и никому не нужным. Я бы лучше сгнил или сдался, чем закончить так.
И в то же самое время я не представлял себе, как я смогу выживать дальше. Хотя мне больше не было холодно, так как началась весна, все равно большую часть времени я дрожал. Мой желудок постоянно сводили боли - также как и мою голову, колени, локти и спину. В ясном сознании я пребывал нечасто. В отличие от моего пребывания в Лефортово, в моих воспоминаниях об этом периоде в Сухановке многие дни отсутствуют. Однажды наступил момент, когда внезапно я почувствовал себя намного ужаснее, чем даже когда замерзал в карцере, находясь в подвале того К-образного бастиона. Я даже не помню, где я находился, когда это произошло. Может быть, меня тогда отвели в баню в Сухановке? Думаю, что меня туда водили, хотя я и не помню непосредственно самой бани. То, что я помню – и меня до сих пор бросает в дрожь, как только ко мне приходит это чудовищное зрелище, которое вырастает передо мной, стоит мне позволить себе воскресить его в своей памяти – это увиденное мной в какой-то момент, когда я оказался раздетым. Должно быть, это было в бане. Я взглянул на свое сжавшееся тело и увидел жуткую вещь: мои колени были толще, чем все остальные части моих ног! Я чуть не упал в обморок, когда увидел это. В моем сознании сразу всплыло другое кошмарное видение – фотография из журнала Life, на которой были показаны выжившие узники Белзена и Аушвица – нацистских концентрационных лагерей. Те люди, что глядели с той фотографии, уже не были настоящими людьми. Они стояли, лежали и висели на проволоке забора, окруженные телами тех, кто умер в утро перед освобождением или, может, днем раньше. Некоторые тела были разорваны – ради печени или других мягких частей. Это уже не были человеческие существа, на этих фотографиях, хотя раньше они ими были. Их глаза смотрели из глубоких, темных глазниц, но, я думаю, они не могли видеть и осознавать чего-либо в тот момент, и мне временами казалось, что такая жизнь хуже смерти, ибо она более непотребная, чем все, что можно вообще себе представить. Тот фоторепортаж вызвал у меня внутреннее содрогание, а теперь я сам стал героем этого фоторепортажа. Я не мог увидеть своего лица, но я мог представить, что это было то самое, смотрящее, отсутствующее лицо, как на тех фотографиях. Я трясся в своей горячке и думал – разве такая жизнь чем-то лучше смерти? А потом у меня возникла мысль – если я задаю себе этот вопрос, не значит ли это, что я вплотную подошел к Концу? Не стоит ли мне лучше вспомнить, где я спрятал те клочки бумаги, пережевать их и забить замок на кровати? Бог мой – мне кажется, я произнес это – где же ты теперь, Алекс Долган? А ведь когда-то ты мог все перенести. Если ты сам уже куда-то ушел, то зачем поддерживать жизнь одного тела?
15.04.2022 в 11:00
|

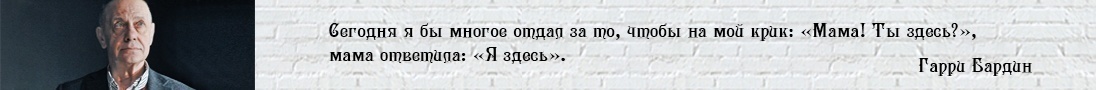











 Свободное копирование
Свободное копирование