Как мы жили? „Лечение" заключалось в том, что нас держали в чистоте, на хорошем санаторном режиме, вовремя укладывали спать, вовремя (и не рано) будили. Летом каждый день, с утра до вечера, мы проводили время в довольно обширном плодовом саду, всячески загорая и греясь на солнышке, в приятной и разносторонней беседе с неглупыми и, во всяком случае, глубоко оригинальными и начитанными собеседниками. Работать никого не заставляли, мастерских (в Чистополе) не было. Камеры не назывались, как в тюрьме, камерами, но — палатами, и мы не сидели, как сидят в тюрьмах, а лежали. Вернее, каждый из нас сидел лёжа. И у всех у нас была одна и та же „болезнь". Называлась она — „пятьдесят восьмая".
Представители тюремной администрации в обращении с нами старались проявлять мягкость, уступчивость или, на худший случай, сдержанность. Дежурные „сестры" и особенно „няни" (санитарки) относились к нам с нескрываемой симпатией и ко многим из нас проявляли прямо-таки сердечность.
Это ли не рай земной? Вдобавок к этому там была полная, неукоснительная демократия. Каждый мог кричать, плясать, петь, говорить что угодно, кого угодно и как угодно — ругать. Никого за это не преследовали и не наказывали. Каждый мог использовать свой „досуг" (а его было более чем достаточно) так, как ему заблагорассудится. Одни целый день, с утра до вечера, как заведенные, ругали Сталина („антихристом" и прочими непотребными именами), другие что-нибудь писали, клеили, изобретали, изучали языки. Были, например, такие тонкие специалисты своего дела, что ухитрялись почти из ничего и, в смысле инструментов, почти без ничего искусно выделывать тончайшие логарифмические линейки. Была довольно большая группа религиозно (в православном духе) настроенных людей. Эти целый день и даже целые ночи напролет молились, клали бесчисленное количество поклонов, постились и проч., а по субботам и в праздничные дни ухитрялись устраивать импровизированные молебствия.
Кстати сказать, эта самая, „излишняя" в глазах властей религиозная экзальтация или одержимость и была, на проверку, прямым поводом к их аресту, и именно за это они получили звание „душевнобольных" и „невменяемых".
Любопытно, что даже своеобразные речевые автоматизмы, и те здесь были строго выдержаны в духе пресловутой „пятьдесят восьмой" с весьма нередким упоминанием Колымы и, в особенности, ее климата („Десять месяцев зима, остальное лето").
Стоило только кому-нибудь, когда исчерпана тема разговора, сказать обычное итоговое „вот", как тотчас же тему этого „вот" подхватят и разовьют.
— Вот, — скажет один.
— Дали ему год... — подхватит другой.
— Просидел тридцать девять месяцев и досрочно освободили... — обязательно присоединится третий.
Такие „анекдоты" на тему о „досрочном" освобождении, кстати сказать, весьма реально соответствовали тогдашней судебно-юридической „практике".
Многие увлекались музыкой, был организован довольно слаженный „ансамбль" гитаристов, мандолинистов, балалаечников. Некоторым присылали из дома ноты. Для просматривавших присылаемые нам книги и ноты „оперуполномоченных" последние всегда были особенным камнем преткновения. Какие-то там черточки, крючки, значки. И прочесть нельзя. Книги были еще туда-сюда. Скажем, „Фрегат Паллада". Ну, что в нем такого... антисоветского? А вот одному из моих товарищей по заключению, а, кстати, и большому приятелю С. Г. Иванову, страстному музыканту, изобретателю (имеет авторское свидетельство), любителю-фотографу, всесторонне одаренному человеку, прислали как-то вместе с другими нотами „Турецкий марш" Моцарта. Тут уж наш „опер" положительно стал в тупик: выдавать или не выдавать?
— Но почему бы и не выдать? — спросили его врачи.
— Да кто его знает! Все же не советский какой марш, а турецкий. А с Турцией у нас за последнее время, сами знаете, отношения обострились...
В конце-концов безобиднейший турецкий марш был все же выдан Иванову. Зато так и осталась до конца под запретом невинная брошюрка „Неслышимые звуки", пропагандирующая успехи науки в области исследования так называемых ультразвуков.
Художник Митрофанов, проведший в стенах „хитрых домиков" около двадцати (!) лет („вина" его состояла в том, что он был белый офицер и участвовал в Русско-Польской войне 1920 г. на стороне поляков), все стены наших палат украсил изрядно надоевшими нам большими полотнами шишкинских „мишек" („Утро в сосновом лесу"), которых он почему-то особенно любил копировать. Была (и довольно удачно) скопирована и „Оттепель" Ф. Васильева.
Зимой, в морозы, нас хотя и выпускали на прогулку в сад, но многие холода не выдерживали и быстровозвратились обратно. Припоминается случай, когда один обычно неразговорчивый „больной", выходя на прогулку, долго крепился. Верным признаком того, что он изрядно продрог и ему хочется вернуться в палату, в тепло, было то, что он вдруг начинал яростно, на все корки, поносить „отца народов". Привыкшая к его поведению и к выработавшемуся у него „условному рефлексу" на замерзание в форме ругани Сталина дежурная „няня" вежливо брала его за рукав и ласково говорила:
— Что, замерз? Ну, идем домой.
И он беспрекословно повиновался. В тепле, отогревшись, он зла на Сталина открыто не проявлял.
У вас, быть может, возникнет вполне обоснованное на первый взгляд сомнение: как это можно, чтобы здоровых, трудоспособных людей десятками лет томить в тюремных больницах? Не были ли эти ваши больные, и в том числе художник Митрофанов, натурально больны, ненормальны?
Ну, что-ж, если и вас, здорового человека, внезапно ночью разбудить и арестовать, обвинить без вины в „преступлении", которое вам и во сне не снилось, оторвать от семьи, от близких, от привычной трудовой обстановки, от увлекательных занятий, которым вы предавались со всем пылом души, и, не добившись от вас „сознания" в неведомо каком „преступлении", заточить на неопределенный срок, без надежды вырваться, без права жаловаться, протестовать, за решетку в подобный „хитрый домик", то еще неизвестно, хватит ли у вас самообладания и душевной стойкости, чтобы не поддаться удручающей обстановке и не сдать, как „сдали" многие в подобных условиях...
В частности, вот одно из моих наблюдений, относимое по времени к 1952 году. Приблизительно за десять лет до этого, а быть может, и значительно раньше, в одну из тюремных психиатрических больниц был доставлен „кавежединец" Сергей Александрович (фамилии не помню). Несправедливость содеянного с ним, многолетняя оторванность от семьи, от детей, к которым он был очень привязан и которые выросли, так и не зная отца, — все это так болезненно повлияло на его чуткую, восприимчивую душу, что он замкнулся, стал заговариваться и в то время, как я познакомился с этим глубоко несчастным человеком, являл собою образ тихого (и необратимого) помешанного с редкими, редкими минутами просветления.
Так искалечили человеческую жизнь. И одну ли только такую жизнь? И кто за это в ответе?
Не довольно было „внешнего" страха: от властей, от МГБ, суда и прокуратуры; сказывался еще и свой, „внутренний" психологический страх, порожденный и поддерживаемый кажущейся или даже реальной полной беззащитностью нашего положения, зависимостью от настроения и отзыва врачей, а еще вернее, как мы догадывались, от глубоко засекреченного срока пребывания .
И хотя известный американский психолог Стэнли Холл находил, что „страхи — прекрасные возбудители", еще чаще они (страхи) в состоянии играть противоположную роль — „прекрасных" угнетателей нервной системы, особенно если к тому налицо предрасполагающая обстановка.
В этом смысле в большой „моде" среди определенной части заключенных „хитрого домика" были разговоры о „вечной коечке", причем, как правило, велись эти разговоры в высшей степени таинственно и, само собой разумеется, в пессимистическом духе.
Суть вопроса о „вечной коечке" сводилась к тому, что где-то, якобы в Сибири, в самых отдаленных и труднодоступных местах существуют такого рода „хитрые домики", в которых попавшим туда обеспечено пребывание до конца жизни. Оттуда уже не было возврата. И многие, очень многие и сами искренно и ненужно терзались мыслью о возможности „заработать" себе подобную „коечку", и терзали (индуцировали) других.
Словом, это был своеобразный „паноптикум" людей с яркими, оригинальными индивидуальностями, с дарованьями, но — людей „в общем и целом" изрядно чудаковатых, со странностями, в той или иной мере „ушибленных", утративших нормальное самочувствие.
И в таком-то вот именно разноплеменном и разноязычном „содружестве народов" и провел я без малого три с половиною года, являя собою тип кроткого (кротчайшего) и тихого старичка. За все эти годы я ни разу ни с кем не „поругался", не вышел из себя, не накричал на кого-нибудь. И в тюремной больнице я был неизменно равен самому себе, — такому себе, каким меня люди знали и видели задолго до ареста и признания „психом", каким меня знают и теперь.

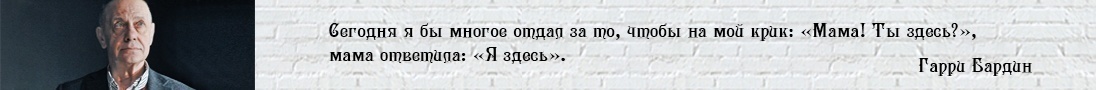











 Свободное копирование
Свободное копирование