Весной 1916 года все пехотные запасные полки, которые были размещены в разных московских казармах (в том числе и „мой" полк), выехали на все лето в лагери на так называемое Ходынское поле, или Ходынку, — на ту самую Ходынку, на которой в дни „коронации" последнего русского царя произошла отчаянная давка, следствием которой была гибель двух тысяч человек, польстившихся на грошовые царские подарки.
...Точно я не могу этого изобразить, но — представляется мне так, что на самой середине этой площади, на чистом поле, сиротливо стоит довольно вместительное деревянное строение с решетками на окнах. Это и была наша гауптвахта. Нам, арестованным, предоставлялась, таким образом, сравнительно более выгодная возможность — жить под крышей, тогда как остальные солдаты, не арестованные, жили под открытым небом, в палатках, то есть совсем как у Пушкина:
„...Их моют дожди, засыпает их пыль и ветер волнует над ними ковыль..."
Учение солдат (то есть спешное, на скорую руку, обучение их массовым, квалифицированным приёмам убийства) продолжалось в форсированном порядке целыми днями, от утренней зари до вечерней, но нам, арестованным, это было как-то не столь заметно, как заметны были и запали в память вечерние, после ужина, „прогулки" в строю измученных учением солдат с пеньем песен, прямое назначение которых — поддерживать воинский дух, но которые, в подавляющем большинстве, были так глупы, бессодержательны, что вряд ли достигали своей цели. Зато другая цель — задняя — при этом явно достигалась: пенье этих песен настолько отупляло, или, иначе сказать, как бы ошеломляло солдат, что они приходили в (нужное их начальству) состояние моральной и психической оглушённости, при которой им было не до раздумий. Ведь недаром Фридрих II, король Прусский, как-то сказал: „Если бы мои солдаты начали думать, ни один бы из них не остался в войске".
Так вот: вечером вокруг здания гауптвахты начиналась такая какофония, что я ее и до сих пор забыть не могу. Гауптвахта, по всем данным, находилась в центре площади, и все солдаты по необходимости маршировали мимо нее.
Вот идут солдаты какой-то роты и во всю мочь своих здоровых глоток не поют даже, а скорее — орут песню, известную своим припевом, в котором были особые залихватские слова:
— „Чубарики-чубчики..."
Не успели они пройти мимо нас со своими „чубариками", как откуда-то из другого угла вывертывается очередная рота:
— „Пишет, пи-и-шет царь германский..."
Не успели отгрохотать эти со своим „германским царем", который грозился, что я-де „всю Расею в плен возьму", как откуда-то из третьего угла или закоулка — еще одна рота. Эти — с „соловьем":
— „Соловей, соловей, пташечка..."
Следующая рота — с „Дуней":
— „Пойдем, пойдем, Дуня..."
И так, одна за другой, из небытия возникают всё новые и новые роты, и каждая со своей возлюбленной песней:
— „Вы не вейтеся, черные кудри, над моею больной головой..."
И еще, и еще:
— „Было дело под Полтавой..."
— „Взвейтесь, соколы, орлами..."
И еще одна песня, которая звучала как явное издевательство не только над здравым смыслом, но и над обычными семейными устоями:
„Солдатушки, браво-ребятушки,
где же ваши жёны?
Наши жёны — ружья заряжены, —
вот кто наши жёны!.."
И так до глубокой темноты солдатам не давали горевать их солдатским, крестьянским горем и всячески — песнями — уговаривали их бодриться.
У нас, арестованных, от всех этих „пташечек" и „чубариков" буквально голова пухла, к тому же сильно донимала духота и клопы, клопов было великое множество.


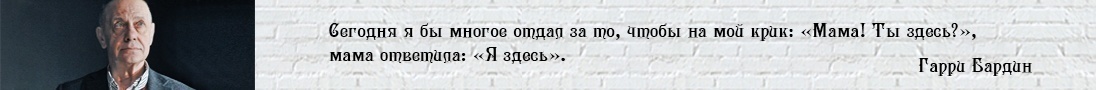











 Свободное копирование
Свободное копирование