|
|
Совокупность взглядов на жизнь, которые я считал своими, с которыми глубоко сроднился, по самой своей природе носила, как мне казалось тогда, некоторый двойственный характер. С одной стороны, это была вера. Вера затрагивала и, так сказать, окрыляла или вдохновляла мои чувства и волю. С другой стороны, возникала необходимость в разумном обосновании этой веры, в аргументах и доказательствах. Это было то самое, что теперь носит название — идеология. У Даля, в его словаре, это носит название — „вера по убеждению". Иными словами, я был не только и не просто „верующим", но, кроме того, я был и „убежденным". Убеждённым в своей правоте. Со мною рядом сидели такие же „отказники", как и я, но из породы так называемых баптистов. Ими руководила вера — та самая, которую Толстой охарактеризовал как слепую „веру доверия". Что касается идеологического обоснования этой веры, то для них в этом смысле вполне достаточно было одних „текстов". „Тексты", уменье перебрасываться ими и в этом смысле довольно бесцеремонное обращение с ними, и составляли для этих молодых баптистов тот самый духовный „футбол", который с лихвой заменял им и разум и аргументы. Мне этого было недостаточно. Требовалось разумное, осмысленное, более того — подчас даже строго логическое обоснование веры. В этом смысле на меня временами находили приступы острого недовольства собой. Недоволен я был главным образом своим неуменьем, если не прямо беспомощностью, спорить и возражать. Мне определенно не хватало тогда того, что условно можно было назвать „диалектической подкованностью". На Ходынской гауптвахте вместе со мною находился некто Загрецкий. Про себя этот Загрецкий говорить избегал, но передавали, что он — разжалованный офицер. Как и я, Загрецкий дожидался суда, и суд, вероятно, не имел оснований быть к нему особенно снисходительным. Это был человек интересный и, судя по всему, интеллигентный, воспитанный (в лучшем смысле этого слова), но — желчный и по характеру, видимо, неуживчивый. Иногда Загрецкий довольно мягко подтрунивал надо мною, над моим „отказом", казавшимся ему бессмысленным, и особенно над моими так называемыми „непротивленческими" взглядами. Этого рода насмешки, как я убедился позже, представляют собою обычный для русского интеллигента и, надо сказать прямо, довольно неумный и безвкусный прием. В ряде случаев такие насмешки непосредственно граничат с плоским и неуклюжим зубоскальством. Но иногда, когда Загрецкий был особенно не в духе, он обрушивался на меня более серьезно. За давностью лет я уж не помню точно, в каких именно выражениях он изливал на меня свою желчь и свой сарказм. Но, поскольку речь шла о самых основах моего мировоззрения, о „толстовстве", это иногда меня очень чувствительно задевало за живое. Мне было трудно сразу найти необходимые возражения, я пасовал, и это ввергало меня в унынье. Я уже сказал, что со мной сидели молодые баптисты. Они были счастливы тем, что не знали, что такое „сомнение". Им и в голову не приходило — сомневаться. Для меня же сомнение, в чистом значении этого слова, было прямо необходимо. Сомневаться для меня значило — анализировать, искать и переоценивать, а, стало быть, двигаться вперед, духовно расти. Повторяю: я не мог сразу найти, что и как именно возразить этому Загрецкому. Я как-то терялся. И, вместе с тем, когда чувствовал или сознавал, что в его нападках на меня есть что-то серьезное, какая-то доля правоты, — это так меня задевало, что я по целым ночам искал (и не находил) ответа. — А что, если и в самом деле этот Загрецкий, и все в мире загрецкие, правы, а я со своим „непротивлением" и „отказом" — не более как жалкий глупыш? Мне было надобно найти необходимые возражения Загрецкому не для него. В гораздо большей степени они, эти возражения и доводы, были необходимы мне самому, для моего духовного роста. И вот, помню, всегда бывало так, что, измученный и обессиленный своими сомнениями, своей „чёрной хандрой", я засыпал и наутро, сверх ожидания, просыпался веселый и бодрый, а главное — то, что мне недоставало в мысленном „диалоге" с Загрецким, — то именно неожиданно облекалось в чётную и ясную формулу. По существу, продолжал ли Загрецкий после этого спорить со мною или же угрюмо молчал, — мне теперь это было безразлично. То, что я нашел, нашел не для него, а для себя, для своего роста и самосознания, для сознания уверенности в своей правоте. Помогал ли тут некий „задний ум", которым, как известно, особенно крепок русский мужик, была ли это работа подсознания, своеобразная интуиция; было ли это, наконец, то самое, что Фрейд довольно удачно окрестил именем „лестничного остроумия", — сказать трудно. Как бы то ни было, то, что я переживал, казалось мне неким „катарсисом", „чисткой души", освобождением, в результате которых я поднимался в своем развитии и самосознании на следующую ступень. Таким образом злобные на первый взгляд нападки на меня Загрецкого, — этого своеобразного „змия-искусителя", — шли мне на пользу: они будили мысль, заставляли углубленно искать ответа на тревожившие вопросы. А когда такие ответы удавалось находить, меня ждало то, что на религиозном языке носит название — „духовная радость". |

|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|

|
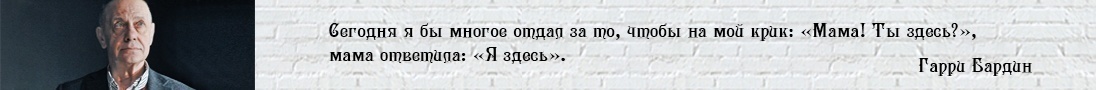











 Свободное копирование
Свободное копирование