Мы жили на центральной улице в полуподвалле. Три выложенные камнем ступеньки вели на площадку, над которой нависала веранда верхнего этажа. На площадке можно было укрыться от дождя и глядеть, как перед домом образуются лужи, как в них надуваются и лопаются пузыри. Вода тоненькими струйками начинала прыгать со ступенек и по углам просачиваться на площадку. Тогда надо было загораживать им путь, строя для этого земляные насыпи с откосом в сторону поверхности земли. В тротуарных канавах неслись черные от пыли потоки. Когда дождь затихал, по бурлящей воде можно было пускать в плавание бумажные лодочки. Но корабли быстро подмокали, получали опасный крен и один за другим терпели крушение.
С площадки две ступеньки вели в квартиру. Комната с окном по площадку была перегородкой разделена на две неравные половины. В первой размещалась мастерская отца, в задней, полутемной, спальня.
Вдоль окна стоял рабочий стол. На столе - книги, переплетные доски и инструмент, горшок с клейстером, баночка с клеем. Сбоку поднимала тонкий хобот угрюмая резальная машина. Чтобы обрезать края книг надо было навалиться животом на опущенный рычаг и давить на него что было сил. Нож врезался в бумагу, отрезал тоненькую лапшу, пока не упирался в деревянную линеечку на талере. Над окном и на стенах на полках лежали книги: голые, иногда порядком потрепанные, ждавшие очереди попасть на рабочий стол и под нож, и чистенькие, одетые в новые бумажные или коленкоровые переплеты, готовые вернуться к своим владельцам.
За перегородкой в полутьме стояли две деревянные кровати, доверху наполненные перинами, подушками и одеялами. Дверь из спальни открывалась во вторую жилую комнату. За ней находилась кухня с большой русской печью. В печи мама по пятницам пекла халу. В остальные дни недели отверстие печи было закрыто заслонкой. Обед варился на чугунной треножке, стоявшей перед заслонкой под дымоходом, в пузатых глиняных горшках и горшочках или в чугунке. Здесь же папа ставил к огню варить свой клейстер или разогревал клей.
Окна из жилой комнаты и кухни переглядывались с окнами соседнего дома, выходившими в переулок. Другая стена вдоль всей квартиры была глухая. Спереди к мастерской примыкала мелочная лавочка бабушки Фримы. За крошечной лавочкой вдоль квартиры тянулась "камора" -- сарай, куда вел ход из кухни. Здесь лежали горы мягких бумажных стружек - переплетных обрезков. Тут же складывались дрова, стоял ящик с пасхальной посудой, хранился домашний хлам. Зимой стояла покрытая камнями бочка с солеными огурцами. "Камора" служила также местом отбытия наказания для провинившихся детей. Устав от плача, я мог сквозь щелочки разглядывать, что творится в лавочке у бабушки Фрумы, мог забираться на снежные горы, зарываться в них с головой или устраивать себе из обрезков снежный буран.
Папа был переплетчиком невысокой квалификации. Не знаю, где он научился этому ремеслу, но он не мог угнаться за братьями Клейнман, которые выполняли всякую переплетную работу. В их мастероской, помещавшейся также на центральной улице, стояла большая резальная машина Краузе с колесом, было машина для резки картона, сшивальная машина для шитья блоков и тетрадей, были всякие приспособления и шрифты для теснения золотом и серебром. А у нас? Старая резалка с узким талером и смешным рычагом.
К папе захаживал молодой переплетчик, живший неподалеку в хибарке с женой и грудным ребенком. Это был рослый, здоровый детина. К его гренадерской фигуре как то не шли ни его профессия, ни нужда, ни робкий характер. Когда у него бывала работа, он приходил к папе одалживать переплетный инструмент или обрезать края переплетенных книг на нашей резалке. Он исчез из города так же внезапно, как и появился после отбытия военной службы, оставив жену с ребенком самим рассчитаться с нуждой. Говорили, что он уехал в Америку искать там счастья.
Из рассказов мамы я знал, что был у нас в городе еще одни переплетчик, веселый и разбитной Липа. Он женился на маминой дальней родственнице Цюне. Имел какое-то отношение к "политике", участвовал в самообороне во время погрома в 1905 году и затем уехал с женой в "Америку". От тети Цюни получались письма, что они живут в свободной стране, "делают жизнь" и советуют папе и маме последовать их примеру, чтобы навсегда избавиться от "Фони-квас" с его черными сотнями и черными делами.
Папа был всегда занят. Если он не работал, то бегал по заказчикам или искал каких-то приработков. Хорошо, когда он приносил для переплетения новые книги: разные там собрания сочинений, комплекты журналов "Нива", "Вестник Европы" или "Русское богатство". С ними папа быстро разделывался. Разнимал книги по листам, счищал сгибы от застывшего клея, пилкой делал на стоках сложенных листов три поперечных надреза и затем сшивал листы на станке. Станок представлял собой доску, в которую втыкались спицы. Когда книг было много, вместо спиц от доски к потолку натягивались три веревки. Сшитые листы густо смазывались столярным клеем. Когда он застывал, книги разнимались, по обоим концам оставлялись расплетенные веревочные косички. Молоточком корешки закруглялись, после чего книги одевались в белые рубашки-форзацы, к ним приклеивались картонные крышки и коленкоровые корешки. Наконец книга облекалась в нарядный цветной коленкор, а более простые - в пеструю мраморную бумагу-шпалер. Выставленные для просушки книги напоминали аккуратно одетых детей на прогулке в балтском бульваре.
Зато какая же была возня, когда приходилось переплетать старые растрепанные молитвенники, пожелтевшие Библии или замусоленные Псалтыри и Евангелия. Из надо было буквально оживлять. Разнять по страницам, правильно сложить их, чтобы не перепутать молитв, латать рваные места, щадя при этом по возможности буквы, потрепанные края укреплять продольными полосками по обе стороны полей, страницы склеивать, чтобы создать им искусственные корешки и сгибы, которые можно было бы сшивать. После такой операции закутанная в плотный картон и коленкор книга все равно напоминала старуху, которую одели в новую шубу, но которая и в новом одеянии с трудом передвигает ноги.
Переплетное дело плохо кормило. По выражению мамы, им можно было заработать только "воду на кашу". Папа начал приторговывать книгами: сначала покупал и продавал поношенные учебники, затем стал ездить в Одессу за новыми книгами. Одновременно он завел нечто вроде библиотеки. Выписывал ходкие журналы и книги, давал их напрокат читателям, которые охотно платили по три копейки за прочет новинки. Зато какая мне стала лафа! Я мог читать все подряд и без копейки денег!
Дела у папы пошли в гору. Когда же в городе открылась мужская гимназия и коммерческое училище, а земская управа стала расширять сеть начальных школ в уезде, основным занятием папы стала книжная торговля. Он завязал деловые отношения с петербургскими, московскими и варшавскими фирмами. Но и переплетного дела папа не оставил, хотя мастерская обслуживала уже теперь собственные нужды, а не заказчиков.
Мы переехали на другую квартиру, где был и двор, и погреб и чердак. Под магазин и мастерскую папа снял специальное торговое помещение из двух комнат с железными шторами.
|
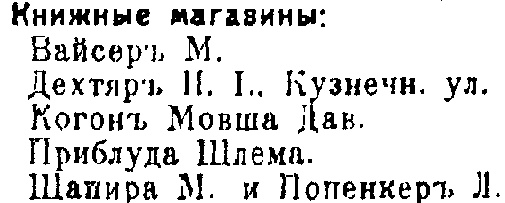
|
Из справочника (г.Балта), 1914 г.
|
В одни прекрасный день папа привез из Одессы новую резальную машину, приобретенную в рассрочку у одесского агента фирмы Краузе. Машина внушала уважение. Как силач Иоська, которого не могли сдвинуть с места четверо ребят, стояла она, мощная широкоплечая на чугунных четырех ногах, крепко привинченная к полу. На груди золотыми иностранными буквами вырезано ее имя: Карл Краузе. Лейпциг. В машину можно было сразу заложить две и три пачки книг, завинтить их прессом наглухо и раскрутить колесо. Плавно выдвигался сбоку блестящий стальной нож, гладко срезал кромку по всей длине талера и, сделав свое дело, уходил вверх, скрываясь от глаз. Моих сил не хватало, чтобы одной рукой раскрутить колесо, но ухватившись обеими руками и я мог разрезать любую пачку книг или тетрадей. Машина внушала уважение.
Через некоторое время у резальной машины появилась изящная подружка - чистенькая сшивальная машина. Я пристрастился к этой зеленой молодой красавице... Любил подолгу сидеть перед ней, касаясь ногами ее педалей. Одна непрерывно вращала тогда колесо, другая приводила в действие механизм. Верхняя губа прижималась к подставленному ей корешку книги или тетради. Острый укол зубчиков - и проволочка петелькой захватывала и затягивала отдавшуюся ей шейку с двух сторон.
Любил я и заправлять машинку и время от времени разбирать, чистить и собирать ее.
Вскоре я научился играть с машинкой, соревнуясь с ней с скорости. Спокойно и размеренно опускала и поднимала машинка свои зубки, а я сначала поспешно, а затем тоже уверенно убирал одной рукой прошитые книжки или тетради, а другой - мгновенно подкладывал ей новые из лежавшей рядом стопки.
Поступив в гимназию, я мог работать в мастерской только во время летних каникул. В это время в переплетной бывало много работы в связи с подготовкой к новому учебному году и выполнением подряда для земских школ. Кроме постоянного рабочего в мастерской работал тогда обычно еще сезонный рабочий, и мы вчетвером составляли одну рабочую бригаду, применяя принцип разделения труда и выискивая наиболее эффективные способы для ускорения и совершенствования рабочего процесса.
В один из жарких летних дней к нам нанялся на работу пришлый рабочий. Растрепанный, без шапки, в выцветшей темной блузе под пояском, в серых штанах и стоптанных башмаках, он производил впечатление "босяка". И действительно, он бродил по городам Украины, не задерживаясь подолгу на одном месте. Маленький, щупленький на вид, Вася оказался прекрасным переплетчиком. Работал скоро, чисто, красиво. Любо было смотреть, как он наклеивал на полотно географические карты, не допуская никакой неровности или вздутия. Ровно сложенные по изгибам после просушки карты с металлическими колечками по углам, отутюженные он ничуть не уступали тем, которые поступали от первоклассных московских фирм. Во время работы Вася любил петь. Репертуар его был унылый, все печальные каторжные песни: "Эх ты, доля, моя доля, доля горькая моя", "По диким степям Забайкалья".
В мастерской узнал я и силу революционной песни. Любил слушать и подпевать горьковские "Солнце всходит и заходит" и в особенности мрачную "Слушай":
Как дело измены, как совесть тирана
Осенняя ночка темна.
Чернее той ночи встает из тумана
Видением черным тюрьма.
Эти песни пел другой наш рабочий, социалист, человек железного телосложения и железной воли, возглавивший в 1919 Балтский ревком. Вливая ненависть к самодержавию, к палачам и угнетателям, песня вызывала желание действовать, бунтовать, бороться побеждать. Пели революционные песни обычно после работы, в сумерки, не зажигая огни, при закрытых дверях. Пели, словно исполняя таинственную службу, приобщаясь к святому делу борьбы за свободу.
Однажды приглушенно Б. запел новую запрещенную песню:
Вот опять палачи.
Сердце стонет... Молчи.
Уж на петлях качаются трупы.
Суровые звуки, страшные слова хватали за душу, бросали в дрожь.
Почему ж не теперь,
Когда царь, дикий зверь,
Задавил весь народ...
Напрасно папа шикал, просил прекратить пение "Не дай Боr, услышит кто-то и может плохо кончиться."
Проработав пару недель, Вася вдруг запил. Пропил все, что заработал и что имел. Когда он появился вновь, худой, босой и мрачный, он не захотел больше работать. Не помогли никакие уговоры и посулы. Взял расчет, купил на дорогу буханку хлеба, надел всученную ему мамой старую рубаху и зашагал по направлению к вокзалу, в поисках доли.




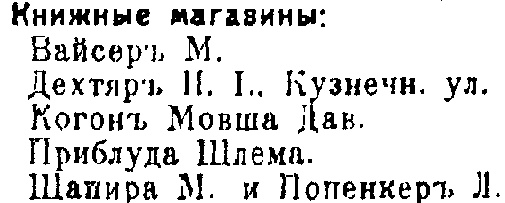








 Свободное копирование
Свободное копирование