01.01.1947
Зеренда, Казахстан, Казахстан
Когда чуть подрос, мои родители, по-прежнему оставаясь без паспортов, с лагерными справками, получили законное право на передвижение в пределах директивных координат (исключительно в границах Казахстана и только в селах и деревнях), и смогли, наконец, поставить в своих биографиях точку как на совхозе «Коксун», так и на ненавистном Карлаге. Из предложенных для дальнейшего проживания населенных пунктов, вернее, местом своей ссылки они выбрали село Зеренду.
Зеренда с какими-то перекошенными избами и вечной грязью с лужами, была деревней, наполовину населенной аборигенами разных национальностей. В одной из таких «избушек на куриных ножках» мои родители сняли у хозяев комнату. Отец начал работать в местном совхозе агрономом, мать оставалась дома и химичила в той части огорода, который тоже взяла в аренду, сажала там картофель, лук, капусту и огурцы. Другую половину деревни занимали немцы, до 1941-го года проживавшие в Автономной советской социалистической республике немцев Поволжья, где имели статус полноправных советских граждан. С началом войны с Германией, автономия их была упразднена, статус аннулирован. Их самих же отправили на «постоянное поселение» в республики Средней Азии, отобрав паспорта и, тем самым, лишив права на передвижение. Часть из этих немцев была определена еще до нас в Зеренду. «Немецкая» половина деревни отличалась от «русско-казахской» тем, что главная улица их территории была вымощена срубами деревьев и грязи на ней как таковой, практически не было. Дома же, которые они за эти годы построили, были вовсе не перекошенными, а идеально спланированными, добротными. Дворы их с палисадом, где летом благоухали цветы, и зеленела трава, были ограждены резными заборчиками. Во дворах были пристройки – сараи и курятники, содержащиеся в полной до странности чистоте. По воскресеньям немецкая коммуна всем составом, как правило, собиралась в чьем-то доме на обед. Мужчины – в пиджаках и галстуках, женщины в нарядных платьях, а их дети вымыты, причесаны и одеты, как одеваются дети только в книжках. Аборигены же – женщины, на лавочках лузгающие семечки и мужчины в подпитии, лишь усмехались, глядя на этот «карнавал», либо отпускали в адрес немцев комбинацию из трех самых употребляемых ими слов. Вот в такую мы попали деревню, где при всем еще была и школа, заново перестроенная с дозволения сельсовета, теми же немцами на добровольных началах. Естественно, не без участия русских и казахов. Как ни странно, но областное начальство определило семиклассной сельской школе статус десятилетней. Объяснение этому явлению находилось простое: директором был назначен немец, как и большинство ее педагогов. Поэтому, из тех ребят, которые хотели учиться, каждый мог получить в ней образование не худшее, чем в самой элитарной школе Москвы. Мои родители сдружились почти со всеми этими немцами, но те комнаты внаем не сдавали, и мы оставались там, где жили. Это не мешало моему отцу с матерью ходить в гости к ним, их же – приглашать к нам. Не всей колонией, конечно же, а по отдельности. Даже после ссылки они оставались друзьями и до конца жизни вели интенсивную переписку. Когда моей матери не стало, (отец скончался раньше) я, за ненужностью, отнес и оставил в ближайшем бункере большую картонную коробку с письмами, приходящими к ним от всех знакомых по лагерям и ссылках, немцев в том числе. И этим актом, видимо, совершил большую ошибку, полагая, что таким образом навсегда расстаюсь с прошлым.
28.11.2024 в 12:34
|

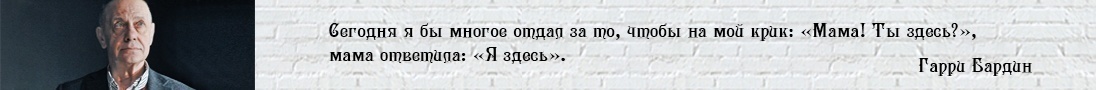











 Свободное копирование
Свободное копирование