Здесь, в Монсоне, мы не заблудились. Но я устремляюсь в наклонную щель с нетерпением, смешанным с уважением. Я энергично пробираюсь по ней ползком, держа в одной вытянутой вперед руке зажженную свечу, зажатую в кулаке. Внезапно свеча гаснет, и в тот же момент моя рука погружается в ледяную воду. Я оказываюсь в полной темноте, стиснутый в узком проходе, и никак не могу зажечь свечу. Конечно, я могу вернуться, но моя рука погрузилась в воду только по кисть, и, решив, что ручеек неглубок, я продолжаю скользить по нему вниз и становлюсь на ноги в небольшом потоке, где мне удается зажечь свечу. Мокрый по колено, рукава куртки полны воды (ведь я полз по воде на четвереньках) — вот в каком виде я достиг моего первого подземного ручья. Настоящее крещение.
Едва я успел чиркнуть спичкой и выпрямиться, как Марсиаль, в свою очередь устремившись в наклонный ход, врезался головой мне в ноги.
— Она совсем ледяная, — сказал он, отфыркиваясь. Он имел в виду температуру воды.
Вода действительно очень холодна и никак не напоминает кипящую воду ручейка Акселя. Следуя памятным мне заветам Жюля Верна, я считаю своим долгом просветить младшего брата.
— Понимаешь, — говорю я с важностью, — здесь мы еще не в центре Земли, и огонь, находящийся в центре, не смог согреть эту воду. Неизвестно, сколько времени она не видела солнечного света, и потому такая холодная.
На несколько метров выше ручей вытекает из-под совершенно непроходимого очень низкого свода. Зато вниз по течению все просто великолепно: перед нами высокая извилистая галерея, и мы идем по ней, радостно шлепая ногами по маленьким быстринам и скромным бочажкам, сменяющим друг друга в нашем потоке. Дно то глинистое, то каменистое и очень неровное. Время от времени встречаются пляжи из обкатанной гальки, черной, как уголь (отложения марганца, как и узнаю позднее). Мы бредем, восторженно и внимательно рассматривая и отмечая все, что нам попадается на пути. Иногда мы видим крохотные притоки, вытекающие из боковых трещин, в которые нам очень любопытно заглянуть, но они почти сразу же становятся непроходимыми. Местами свод поднимается очень высоко, образуя уходящие вертикально вверх колодцы, которые там, наверху, сообщаются с воронками пещер верхнего этажа. Такую картину, связанную с механизмом просачивания подземных вод, я буду встречать в пещерах всю жизнь. Вода всегда роет, сверлит, использует и расширяет трещины, и с помощью силы тяжести ей в конце концов всегда удается достичь более низкого уровня, спускаясь все ниже и ниже.
Верхний этаж пещеры Монсоне и представляет собой древнее иссохшее подземное русло, из которого проточная вода ушла много тысячелетий назад. По многочисленным воронкам (места утечки первичных ручейков) вода просачивалась в нижний этаж, где мы теперь разгуливаем в бегущем потоке. Уход воды и осушение верхнего этажа относятся к очень давней геологической эпохе; грот успел послужить убежищем гиенам, которые притаскивали сюда трупы или части трупов многочисленных животных (их кости Эдуард Арле извлекал в 1890 году).
При каждой новой неожиданной находке наше продвижение прерывается восклицаниями:
— Смотри, вот кость!
В воде ручья я заметил и подобрал короткую крепкую черную, как уголь, кость и тотчас же сунул ее в карман, а потом выставил в своем музее на чердаке. Позже аббат Брейль, оказавший мне честь своим посещением, определил ее. Это оказалась трубчатая кость лошади.
Вдруг Марсиаль окликает меня:
— Иди сюда! Креветки!
Склонившись над глубоким озерком с идеально прозрачной водой, он показывает мне забавных крохотных водяных животных, двигающихся очень проворно. Это действительно креветки. Пресноводные креветки с совершенно прозрачным тельцем. Эти пещерные ракообразные лишены органов зрения и живут в абсолютной темноте. Предупрежденные каким-то особым чувством (по всей вероятности, слухом), они обнаруживают наше присутствие и прячутся в щели среди камней.
В одной восточной легенде рассказывается о человеке, зачарованном мелодичным пением и красочным оперением маленькой птички; слушая ее, он в течение ста лет бродил за ней по бесконечному лесу. Подобно ему мы медленно продвигаемся по темному лабиринту, и нитью Ариадны нам служит ручеек, который бежит от камня к камню, от заводи к перекату и доводит нас до последней узкой расщелины. Здесь очарованию приходит конец, так как вода, поглощенная щелью в скале, покидает нас с бульканьем, похожим на рыдание…
Около полуночи мы вернулись к истоку ручейка. Ползком пробравшись в расщелину, по которой мы проникли сюда, и бросив доверчивый взгляд на висящую вдоль глинистой стенки веревку, мы направляемся в галерею, ведущую к верховьям ручья.
После захватывающих, полных поэзии часов, которые мы провели, следуя вниз вдоль ручья, нам приходится напрячь все силы, чтобы добраться до верхнего этажа и вступить в борьбу с крайне неприятным, цепким и коварным врагом. Нам необходимо взобраться по откосу из вязкой глины. Сразу же мы покрываемся слоем грязи, ноги вязнут в липкой массе, а руки становятся похожими на неудобные и нелепые боксерские перчатки. Все, включая свечу, покрыто слоем глины, виден лишь маленький язычок пламени, который не хочет и не должен умереть.
В одной из моих книг я написал похвалу грязи и не отказываюсь ни от одного слова, как бы ни казалось парадоксальным восхвалять предмет, всегда считавшийся отвратительным и отталкивающим. Я позволю себе повторить некоторые из моих прежних высказываний:
"Для спелеолога самая клейкая, вязкая, зыбкая и все покрывающая своим слоем глина никогда не бывает просто грязью, а всегда остается благородным веществом, которым он весь пропитывается, которое покрывает его с головы до ног, а иногда превращает в ледышку, но которое в конечном счете до такой степени неизбежно и привычно, что становится как бы классической, характерной чертой пещер. Весь измазанный глиной, на этот раз, скажем, просто грязью, спелеолог не имеет ли права с гордостью сказать, как Сирано де Бержерак:[1] "Я элегантен морально!"
Ведь если дойти до самой сути вещей и если нам разрешат до конца высказать нашу мысль, несущую на себе след символики (почти геологического мистицизма), то не уместно ли здесь напомнить, что глина — самый почтенный и благородный материал, потому что, по библейской легенде, нас вылепили из "горсти земли". И можно ли сомневаться, что этой землей была глина, красная глина. Само имя первого человека — Адам — на древнееврейском языке означает "красная земля", а слово "человек" — homo по-латыни — также созвучно с humus — "земля".
Вот что мне хотелось сказать о пещерной глине, которая многих отпугивает так же, как она вызвала отвращение у нас и чуть не оттолкнула при первой встрече, при первом боевом крещении в пещере Монсоне.
Кроме того, наша первая пещера вскоре выставила против нас еще более серьезное препятствие, которое мы сначала сочли даже непреодолимым.
Покрытые грязью с головы до ног, с трудом преодолев этот проход, мы только немножко передохнули в каменном зале, заканчивавшемся низким лазом. Ползком на животе мы проникли в него, но дальше он, по-видимому, становился непроходимым. Лаз имел вид щели, ощетинившейся сталактитами и массивными колоннами, образующими как бы прутья естественной решетки.
Даже Марсиаль, несмотря на всю гибкость восьмилетнего ребенка, отступает перед слишком узкими ходами, и нам приходится вернуться в огромный зал, где мы соскребаем с себя глину ножом, чтобы хоть немножко освободиться от нее, так как она склеивает даже пальцы рук. Я вовремя вспоминаю, что у меня в мешке есть молоток, опять ползу в проход и начинаю крушить тонкие сталактиты, которые раскалываются со стеклянным звоном. Но за тонкими следуют более толстые и прочные, короткие, особенно крепко приросшие колонночки, которым мой инструмент наносит только слабые удары, так как я вынужден находиться в очень неудобной позе и у меня нет места, чтобы размахнуться. Быстро устав, с затекшими от напряжения мышцами, я оставляю молоток и уступаю место Марсиалю, которому благодаря маленькому росту удается продвинуться немного дальше вперед. Но, будучи ребенком, он бьет молотком еще слабее. Однако, объединив усилия, часто сменяясь, со всем пылом сокрушителей преград мы все же делаем некоторые успехи. Разрушение каждой колонночки мы отмечаем победным кличем. Мы быстро отгребаем и отбрасываем обломки, и нам удается снова продвинуться вперед. Все это тянется бесконечно долго, но в конце концов приходит минута, когда мы ломаем последний известковый столбик и видим, что дальше, за каменным навесом, потолок щели начинает наконец подниматься. К счастью, сталагмитовый порог, к которому мы теперь прижимались вплотную, гладок и влажен, и мы легко его преодолеваем. Я выдыхаю воздух, чтобы уменьшить объем грудной клетки, и, сдирая кожу с груди и лопаток, пролезаю с отчаянным усилием и глубоко с шумом вздыхаю под сводом, который больше не давит на меня так угрожающе и жестоко. Марсиаль следует за мной как тень. Пещера идет дальше вглубь просторным коридором.
Узкие ходы поднимаются на неразличимую высоту, а под ногами разверзаются колодцы, из которых доносится шум вновь найденного ручья, верхнее течение которого мы сможем исследовать только в следующий раз. Сегодня для нас достаточно обследовать этаж, в который мы проникли с таким трудом.
Мы попадаем в пещеру, заканчивающуюся тупиком с маленьким круглым отверстием. Для очистки совести я просовываю в него голову. Ура! Победа! Коридор продолжается! Я протискиваюсь полностью и оказываюсь в крохотном зальце с песчаным полом, на котором замечаю цепочку следов маленького животного. Сначала это открытие нас очень удивило, а потом обрадовало, когда, поразмыслив, мы решили, что никакое животное не могло сюда проникнуть через вход, находящийся далеко в карьере. Слишком много на пути различных препятствий, из которых совершенно непреодолимое — это обрыв: ведь мы спустились сюда по веревке. Следовательно, мы находимся где-то недалеко от другого входа в пещеру, наверное, посреди леса в каком-то неизвестном нам месте горы, по недрам которой мы с трудом пробирались в течение многих ночных часов.
Перспектива выйти наружу, пройдя сквозь всю гору, приводит нас в полный восторг. Мы осматриваем запас свечей и находим его достаточным. Это придает нам уверенности, и мы бодро двигаемся вперед, но, увы, недолго. За первым же поворотом перед нами открывается неожиданное зрелище, и мы замираем на месте. Здесь пещера оканчивается каменным мешком, из которого нет никакого выхода, а на земле валяется хрупкий скелет животного, следы которого привели нас сюда.
Несколько мгновений мы стоим, потрясенные драмой, которую нам рисует воображение. Животное, каменная куница, проникла в пещеру, по-видимому, через какую-то узкую щель в своде, соединяющую подземелье с внешним миром. Двигаясь по ходам, может быть очень длинным и сложным, — их мы никогда не узнаем, так как они доступны только мелким животным, — каменная куница попала наконец сюда. Раненная, больная или сбившаяся с пути, она долго блуждала, пока в конце концов не умерла в самой глубине пещеры…
Под землей неуютно. Все сурово, иногда зловеще, всегда величественно и полно угроз. Конечно, именно поэтому человек и животные инстинктивно избегают и боятся подземного мира. Только немногие приспосабливаются к этому царству смерти и испытывают интерес, даже страсть к его исследованию. Это спелеологи.
Спелеологи? Прошло много лет, прежде чем мы узнали этот варварский неологизм, но по собственной инициативе, согласно своему, возможно, странному вкусу к необычному, мы стали дилетантами-спелеологами, по-настоящему влюбленными в пещеры.
Исследование грота Монсоне, открывшее нам многое неизвестное ранее и давшее разносторонний опыт, очень многому научило нас и позволило пережить незабываемые часы. Кроме того, эта пещера навсегда завоевала меня для подземных похождений. Ведь она была моей первой настоящей пещерой.


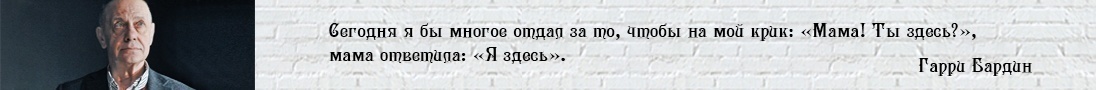











 Свободное копирование
Свободное копирование