5. Я родился в самом центре России
ФОТО
Иваново в центре России, центр города: сквер у гостиницы Центральная, памятник купцу Горелину (мой очерк был рожден в советское время и такого имени, не то что памятника в Иванове не могло существовать, однако к 21-му веку выяснилось, что он был вовсе не мироедом, а напротив, весьма полезным для города человеком).
После всех случившихся отступлений вернемся, всё же в начало.
Только ещё одним должен поделиться.
Удивительное дело. Я написал в своей жизни немало всяких сочинений, и не только технических. Но теперь, сидя над этими воспоминаниями, открываю неожиданное в себе. Привык, прежде чем взяться за перо, заранее всё просмотреть «в уме». Но сейчас, печатая очередной эпизод «из глубины веков», я имел на «регистре памяти» маленький, чуть просвечивающий фактик. Однако, войдя в него, вдруг открылось ... Словно провернулось назад время. И снова я там. Только – тихо, не спугни это чудо – остановленное мгновение, все краски, все звуки. И я – сегодняшний, могу его рассматривать отсюда, и с разных сторон.
И мне открывается понимание настоящего писателя:
«Ядром, ослепительным ядром того, что можно назвать счастьем, я сейчас владею. Оно в той, потрясающе медленно накопляющейся рукописи, которая ставит меня в обладание чем-то объёмным, закономерно распространяющимся, живо прирастающим...»
Из письма Бориса Пастернака отцу Л.О. Пастернаку от 2 мая 1937 года.
Известно, что в первую военную зиму эти рукописи Пастернака с началами «Доктора Живаго» сгорели при пожаре. Он о них не жалел.
И ещё из другого его письма от 1935 года, из того недолгого периода, когда власти с ним носились, и всё из-под пера печатали:
«Мне хотелось чистыми средствами и по-настоящему сделать во славу окружения, которое мирволило мне, что-нибудь такое, что выполнимо только путём подлога. Задача была неразрешима, я сходил с ума и погибал...»
Что это за человек был – Борис Пастернак? А вот послушаем его:
Поэзия! Греческой губкой в присосках
Будь ты, и меж зелени клейкой
Тебя б положил я на мокрую доску
Зелёной садовой скамейки.
Расти себе пышные брыжи и фижмы,
Вбирай облака и овраги,
А ночью, поэзия, я тебя выжму
Во здравие жадной бумаги.
И такого человека, гения, жившего в особой среде природы и языка – подонки терзали, заставили отказаться от Нобелевской премии и задушили. Если не Сталин, так Хрущёв. Приложив усилие, ещё можно понять властителя, бросающего под танки жестокого захватчика необученное ополчение. Но выследить, вытянуть поэта, живущего в своём Переделкине, «бесконечно далёкого от декабристов», полностью поглощённого таинством связи души с гудками далёкой электрички, с лепетом весеннего ручья и буйством осенних листьев под ногами – это непостижимая для человека неуёмность злобного кровавого двуногого.
А что сделали с Иосифом Бродским? Дадим на минуту ему слово (сказанное на столетие Анны Ахматовой):
Страницу и огонь, зерно и жернова,
секиры острие и усеченный волос –
Бог сохраняет всё; особенно – слова
прощенья и любви, как собственный свой голос.
Великая душа, поклон через моря
за то, что их нашла, – тебе и части тленной,
что спит в родной земле, тебе благодаря
обретшей речи дар в глухонемой вселенной.
Слушаешь звуки речи, а видишь работу скульптора. А поэзию он, вообще, выпустил на волю из, хотя и сладкого, но плена. Его ещё более гуманная генерация советской власти судила за... тунеядство! И сослала в деревню, потрудится на земле. А после выгнала из страны, т.к. он всё писал стихи. И тоже злобно зашипела голосами продажных литературных гусаков, когда мир оценил его Нобелевской премией.
Не могу остановиться... оказывается, чтобы сочинить что-то дельное, дерзающему ещё требуется сила и способность удержать рвущееся из рук и из сердца желание немедленно отозваться на всё, что не укладывается в запас терпения.
Мои родители приехали в Иваново в 1929 году из Одессы. Они привезли с собой красивого мальчугана. Его младший брат появился уже здесь, в центре русской земли – городе Иванов. Центральная улица с трамваем уже называлась Социалистической. Ожидаемый переход общества в следующую фазу затянулся, и для ясности улицу переименовали в Советскую, а затем и в непременную ул. Ленина. Ещё несколько улиц с признаками асфальта, обширные районы частных домиков и фабрики, определявшие характер населения. Вокруг фабрик сгрудились довольно мрачные общежития, бараки – места грязные, уголовные, куда забредать не стоило.
Мы жили на улице Нижегородской, с булыжной мостовой, в 400-х метрах от исторического центра города. Это была площадь, на которой в одну из революций казаки разогнали рабочую демонстрацию. Много позже, уже при Брежневе вдруг обнаружилось всемирно-историческое событие – рождение именно в Иванове первого в истории Совета рабочих депутатов, т.е. Советской власти. Тогда подняли большой бум и соорудили на этой площади памятник жертвам расстрела. Я присутствовал на его открытии. Как полагается, начальство позаботилось о скоплении трудящихся. Когда сказали несколько речей и развязали крепящую верёвку, покрывало сбежало с монумента, и на людей грозно взглянул рабочий, поднимавший другого, лежащего. Первые ряды попятились от его злобного взгляда. Он, обращаясь ко всем, словно говорил: «Мы погибали за вашу свободу, а вы, трусы, боитесь теперь слово сказать!»
Правда, позже идею монумента некоторые граждане толковали иначе, ближе к современности: «Вставай, чего лежишь, магазины уже открыли!» В то время, в борьбе власти с непрерывностью пьянства, водочные отделы стали открывать только в 10 утра. Бутылку вина – пожалуйста, покупай на рассвете, а водку – только в 10. Продавщицу вполне могли засудить на порядочный срок, если кто заметит, что «вон вышел один из магазина с заднего хода и горлышко с белой пробкой торчит из кармана». А в доносчиках здесь никогда не было недостатка. Во времена Горбачёва с водкой вообще боролись насмерть. Многочисленные любители по традиции покупали «бутылку на троих» ... сухого вина. Отпивали поровну, отмеряя пальцем свою треть, а потом долго растерянно смотрели друг на друга.
Шутки шутками, а наш город действительно оставался ортодоксально советским. В Москве, например, давно уже нельзя было сделать операцию без взятки, а у нас такого не было. Москвичи, не самые приближенные к власти, приезжали и лечились в нашей довольно нищей, но действительно «бесплатной медицине».
Позволю себе короткий взгляд в день сегодняшний. Давно не был на своей прежней родине. Нажал клавишу Интеренета, и вот я в своём Иванове. Ого, там новости, почище тех советских, от которых едва отмылся, чтобы вернуться в нормальный облик "человека разумного". Вот документ живьём.
Лента новостей
В Иванове откроют памятник американской псевдодемократии
9 апреля 2006-го года на пл. Революции комиссары молодежного движения «НАШИ» откроют памятник «настоящей» демократии. В американской трактовке слово демократия не более чем пристойное прикрытие для агрессивной, захватнической политики. Правительство США ведет политику двойных стандартов. Оно намеренно создает привлекательный образ своей страны, своей культуры, применяя при этом насильственные методы в отношении граждан других стран.
Зачем Америка так яростно (огнем и мечом) насаждает свою модель демократического общества? Ответ прост – не считаясь с мнением других суверенных государств, она хочет добиться мирового господства,
Мы хотим показать истинное лицо их демократии.
Открытие памятника состоится в 14.00.
Остаётся сказать – "комментарии излишни".
Самым красивым сооружением на нашей улице был большой, весь в нарядных изразцах, куб трансформаторной будки. Если приложить к её стенке ухо, было слышно такое серьёзное гудение. Уже потом, прогуливаясь здесь с моим старшим сыном Лёней, только научившимся ходить, я обычно спрашивал его: «Кто в этой будке живёт?» И малыш на удивление всем торжественно произносил: «Трансформатор!»
Город родился и вырос вокруг скопления на берегах местной речки Уводи текстильных фабрик, отмывавших в ней ткани после крашения. К началу 20-го века фабрики укрупнились. На них работало много женщин. Их организм, видимо, оказался более приспособленным к особым условиям, которые предложили людям собранные вместе станки, ткавшие ткани из ниток.
Когда в беседе с кем-нибудь из бывших советских сообщаешь, что ты из Иванова, то вслед, как отзыв на пароль, следует: «А из города невест! Ну, как там ткачихи?» И ждут рассказа, где, собственно, сейчас пребывает твой гарем.
Официальная статистика сообщала, что в послевоенном Иванове на 10 женщин приходится 9 мужчин. Легко было усомниться в этом, ибо в трамваях, магазинах, да и просто на улицах, мужеский пол почти не встречался. Вот, если приблизиться к точкам продажи пива, то застанешь совсем другую демографию – десятки и сотни мужичков стоят в очереди, а счастливцы вдумчиво тянут из кружек. Допив пиво, никто не уходит, а уже без очереди снова приближается к продавцу – повторить! Таков закон пивного общества. Этот круг размыкался только с опорожнением бочки. «Пиво кончилось!» - сообщали подходившим жаждущим розовые довольные граждане. Они, не спеша, расходились явно нагруженные и чувством собственной значительности. Вскоре на пустыре поблизости от пивного ларька на травке оставалось лишь несколько сидевших в кружки компаний. В центре стояли трёхлитровые банки с жёлтоватым содержимым. Пили из кружек, в которые обильно доливалась бесцветная жидкость из припасенных бутылок. Татуированные руки и блатной жаргон предостерегали прохожих от лишних вопросов. Совсем не требовалось юридического образования или «следственных действий», чтобы осознать – вот она перед тобой, на блюдечке – шайка воров. Но милиция к ним не приближалась.
Возвращаюсь в экскурс по довоенной Нижегородской. (Она со временем превратилась в ул. Молотова, в честь сталинского помощника).
Мы приближаемся к кирпичной арке над входом в Пассаж. Так назывались два ряда промтоварных лавок, всегда омываемых волнами покупателей. Напротив, через дорогу плечом к плечу пристроились в ряд пивнушки и погребки. Туда стекались серые людишки, а оттуда выходили бойкие красномордые, с громким матом на устах, граждане. После опробования голоса, а затем и кулаков (жаль, но так красиво, как показывают на экране, драться тогда ещё не умели, так какие-то тычки, пинки, хриплые угрозы: «Убью!») они, размазывая кровь и сопли, обычно обнимались, а некоторые тут же укладывались поспать часок-другой. Никто не обращал внимания на эти тела, которые не проявляли признаков жизни, если не считать проступавших из-под них явных последствий исполнения неосознанных желаний.
На выходе из Пассажа, если взять налево, находился тот знаменитый керосиновый ларёк, о котором я рассказывал в связи с бабушкиной похвалой. Пройдя ещё сотню-другую метров по пустырю с остатками не слишком древних строений, можно было выйти к главной площади со скромным фонтаном. За ним возвышалось чёрно-серое здание единственной в городе гостиницы. У входа стоял разодетый грозный швейцар. Проникнуть мимо него никому не удавалось, но сквозь открытую дверь можно было разглядеть внутри фойе чучело огромного медведя с поднятой лапой. В двери входили и выходили не по-нашему одетые мужчины, которые смотрели поверх снующих по улице аборигенов.
Здесь, на площади, можно было сесть на трамвай № 3 и уехать к западной окраине города, к парку КиО (культуры и отдыха) и стадиону, где Лёня играл в теннис. Парк был замечательный, с культурой и отдыхом особо не приставал, но бережно хранил большущий кусок заповедного леса, с настоящими корабельными соснами и даже полянками черники и земляники. Иногда из расположенных не очень далеко диких ивановских лесов заходили в парк огромные лоси. Именно эти леса я, уже взрослый, ощутил истинной своей родиной, туда зимой и летом скрывался от города и от людей. И природа принимала меня и защищала.
Если свернуть с главной парковой аллеи и подняться на заросшую соснами возвышенность, то попадёшь в особое тайное место, откуда открывался вид на реку Уводь с зелёными лугами по берегам, а здесь под ногами вдруг обнаруживала себя такая трава-мурава пополам с цветами, что неудержимо притягивала хорошего городского человека понежиться на ней, отдавшись своей древней сущности.


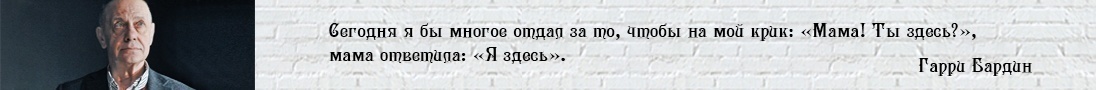












 Свободное копирование
Свободное копирование