У судьи
После того, как столь плачевно кончилась моя служба на железной дороге, родители сочли за благо снова „сослать" меня к тетке, в Нижний Тагил. Я не возражал. Напротив, мне всегда как-то особенно нравилось менять места жительства, разъезжать. В этом отношении я выдался в отца.
Это было, вероятно, в начале 1912 года, и мне шел уже двадцатый год. В Тагиле я поступил на службу в качестве „письмоводителя" к... не помню хорошо: не то к „мировому", не то к „городскому" судье. Судья — некто Флеров — был, судя по всему, довольно образованный, культурный и, главное, как часто говорят теперь, гуманный человек. Что-то в нем было такое неисправимо и закоренело земское. Я хочу сказать, что такие люди наичаще встречались раньше именно среди земцев.
Ко мне он относился неплохо, но вот беда: я быстро понял, что мне с моими „христианско-толстовскими" взглядами на жизнь работать, служить у судьи — не пристало, то есть нехорошо, совестно, „грех". И поняв это, не мог уже, как того требовал от меня патрон, вникать во все детали порученного мне дела, относиться к нему с душой, с искоркой.
Ох, уж эти мне „убеждения"! „От юности моея" не только „мнози борют мя страсти", но и убеждения, к тому же, мешают жить по-человечески. Тут не так, там не так...
Спрашивается, где же и когда — так? Недаром еще с юности запомнилось мне одно „шутливое" стихотворение — кажется, А. М. Жемчужникова:
„В лучшем из миров
все ко благу шествует,
лишь от разных слов
человек в нем бедствует.
Назову их тьму;
но, иных не трогая,
я одно возьму:
убежденье строгое..."
Да, вот именно! „Убежденье строгое" не переставало портить мне жизнь от юности до седых волос. И не будет ничего удивительного, что как начал я свою сознательную жизнь (об этом позже) с тюрьмы, с тюремной решетки, так, вполне возможно, суждено будет и скончать свои дни все за той же решеткой.
Но обо всем этом — после.
Как судья, Флеров имел дело преимущественно с крестьянами. Насколько я помню, мужики, крестьяне привлекались к ответственности главным образом за „самовольные" порубки леса. Других каких-либо особенных, так называемых „бытовых" дел, связанных с заводским населением Тагила, память не сохранила.
С мужиками Флеров держал себя внешне сурово, как тому и быть полагалось, раз человек исполняет должность судьи. „Назвался груздем — полезай в кузов". Случалось, под горячую руку и оборвет мужика. Но под этой напускной суровостью даже мне, мальчишке, угадывалась добрая, незлобивая душа.
Во всяком случае, если статья закона, на которую судья опирался, гласила „от" — „до", то он почти всегда давал обвиняемому только „от", то есть выносил сравнительно мягкие приговоры.
Бывало, накричит на мужика, „напылит", а когда дело дойдет до приговора, ограничится сущими пустяками.
Приходит к нему мужик:
— К вашей милости, господин судья!
Флеров вспыхивает, как береста:
— Какая у меня милость? Милость только у царя да у Бога...
Но все же довольно терпеливо выслушает мужика и, где можно, даст необходимый совет.
Таким в моей памяти встает этот человек. Помните, как у Некрасова: как-то так —
„... воплощенной укоризною,
мыслью честен, сердцем чист,
ты стоял перед отчизною,
либерал-идеалист".
Таким именно хранителем „светлых традиций" шестидесятых годов и был, вероятно, этот Флеров.
Судил он единолично, единоуправно, без присяжных, без обвинителя: это был в полной мере „совестный" суд.
Приступая к „судоговорению", одевал на себя какую-то особую цепь, ставил перед собой „зерцало". На стене, как правило, висел портрет „его императорского величества государя-императора и самодержца всея Руси" — Николая II. Его именем и выносил судья свои приговоры.
Не будь я дурак, я мог бы у этого судьи не то что сделать карьеру, но — серьезно попривыкнуть к делу, накопить некоторый опыт и, быть может, несколько продвинуться вперед, чтобы стать настоящим судебным „клерком" — одним из тех, кого с таким знанием жизни описывал Диккенс.
Но я был дурак, и притом неизлечимый. Меня волновало: как это так, я, завзятый „народолюбец", „толстовец", и вдруг помогаю судье судить мужиков, и притом — за что же судить? Не за какие-либо тяжкие и злые преступления, а единственно по поводу их, мужиков, законнейших, с моей точки зрения, прав на землю, на лес.
Сколько я перевидал их тут, в камере суда, горнозаводских уральских крестьян — наполовину мужиков, наполовину рабочих, суровых, сдержанных, старообрядческого, кержацкого облика и покроя! Вот они сидят в приемной и ведут между собою разговоры в духе теперешней „пятьдесят восьмой". А я, юнец, сидя в сторонке, прислушиваюсь к разговорам, присматриваюсь к лицам, и многое болью отдается в моем мужиколюбивом, народническом сердце.
— А которые дрова-те покупають, — как-то особенно скорбно говорит сгорбленный, пожилой мужичок, — те едять белый колач. А которые дрова-те продають, те едят черный колач...
Смысл этой тирады сводился к тому, что многие из крестьян промышляли тогда дровишками, привозили их на продажу в город. Но вырученные от продажи дров деньги шли на уплату налогов и податей, так что поневоле приходилось довольствоваться „черным колачом": на покупку в городе „белого", хотя бы только для ребятишек, средств не хватало.
Я уже знал тогда, что Урал кишмя-кишит старообрядцами и сектантами всех направлений: были тут и „иеговисты" („лесное братство"), и „немоляки", и „неплательщики", и „не-наши", и „молчальники", и „бегуны" — „скрытники", и многие другие. Особенно же много было на Урале старообрядцев — до самых крайних и своеобразных „согласий" и „толков", включая наиболее крайнее — так называемую „глухую нетовщину" или „нетовцев". В основе учения всех этих „сект отрицания" лежало общее недовольство горнозаводскими порядками. Свое неодобрение существующих стеснений крестьяне выражали путем „уклонения" от военной службы, от уплаты налогов и различных сборов („неплательщики"), а также путем ухода в старообрядческие и иные скиты и бродяжничества.
Как же я мог тогда не сочувствовать, хотя бы самым платоническим образом, всем этим настроениям крестьянства, коль скоро в основе становления моих собственных взглядов уже тогда лежало общее, более или менее непримиримое „неприятие" и неодобрение властей, государства и так называемого „права", которое на проверку всегда оказывалось правом сильного...
Писатель Федор Гладков талантливо засвидетельствовал:
„В моей обездоленной деревне жили люди большой совести и беспокойной мысли — искатели правды, протестанты, своеобразные нигилисты и бунтари. Среди них были и мечтатели, и обличители, и мстители... Это были те русские люди, которые не сгибались под гнетом насилия и которые имели дар видеть свет и во тьме и предчувствовать радость будущего".
Именно такого рода людей „большой совести и беспокойной мысли" и наблюдал я ежедневно в камере нижне-тагильского судьи.
Вот стоит перед судьей высокий, худощавый, чернобородый мужик сугубо „раскольничьего" вида. По всему видно, что этот раскольнический, неплательщический дух так и прет из него, так и просится наружу.
— Имя? Отчество? Фамилия? — отрывисто спрашивает судья. Мужик отвечает. И вслед за этим, хотя судья его об этом вовсе не спрашивает, заявляет:
— Вероисповедания христианского.
Именно то, что мужик не сказал, что он — православный, а нарочито, подчеркнуто, почти вызывающе как-то (и вместе с тем скромно, с достоинством) заявил, что он вероисповедания „христианского" (хотя, повторяю, судья на этот раз, быть может, умышленно не интересовался вопросом, какой он веры), — именно это и переворачивало во мне все нутро. Я не мог не учуять (и сразу учуял) в этом суровом на вид крестьянине „родную душу" — именно душу бунтарскую, сектантскую, почти анархическую, и вместе с тем — душу мягко или кротко религиозную, вдумчиво-лирическую.
Мужик этот обвинялся не то в какой-то „потраве", не то в самовольной рубке леса.
Мог ли я равнодушно отнестись к судьбе этого крестьянина?
— Как, — спрашивал я себя, — как могу я помогать судье засадить этого мужика в тюрьму (хотя бы на минимально короткий срок — два-три месяца), коль скоро мы с ним (с мужиком) одинаково убеждены, что „земля ничья, земля божья", и лес тоже ничей, божий, а не какой-то там посессионный, демидовский.
Добро бы судья защищал или ограждал интересы государства, казны, как тогда говорили. А то — защищает интересы „вельможных" наследников Демидова, владетельного „князя Сан-Донато", купившего себе дутый титул дутого итальянского княжества за огромные деньги, добытые потом и кровью миллионов рабов, которых веками мучили и истязали на многочисленных демидовских рудниках. Наследники эти (Демидовы) разъезжают по разным там Парижам и Монакам, проигрывают народные деньги в рулетку, тратят их на покупку своим любовницам драгоценных брильянтовых колье, — а тут мужик — дерево срубить не моги!
Ведь эти самые вельможные владетельные князьки этого „своего" леса и в глаза не видали, и не знают даже, как он растет, а мужика отдают под суд за то, что он срубил дерево в „их" лесу. Вот тебе на!..
В конце концов Флеров, видя, что у меня нисколько нет „прилежания" к тем обязанностям, которые он на меня возложил; видя, далее, что на работе я никак не „расту", вынужден был, скрепя сердце, меня уволить.
Он не понял, а я, понятно, не открылся ему, почему у меня „душа не лежит" к судейской карьере. Ему показалось бы, вероятно, просто смешным и диким, если бы я в качестве основного „резона", препятствующего мне продолжать службу в „судебном ведомстве", выдвинул слова Христа:
— „Не судите, да не судимы будете".
И — слова апостола:
— „Итак, неизвинителен ты, человек, судящий другого..."
На прощание судья напутственно посоветовал мне:
— Нет, видно с канцелярским делом у вас ничего не выйдет. Лучше бы вам пойти по ремесленной части, изучить какое-нибудь рукомесло...
По странной иронии судьбы, в последующие годы жизни наибольших успехов добился я именно в этом „противопоказанном" мне Флеровым канцелярском деле.
В самом конце 1912 года, после того, как был „с миром" отпущен судьей, у которого столь неохотно и неудачно исполнял обязанности „письмоводителя", я из Нижнего Тагила вернулся в Самару, в родную семью.
Отсюда начинается второй, качественно новый и — в смысле успехов более благоприятный этап моей юности. Он охватывает собою предвоенные годы — 1913-1914.


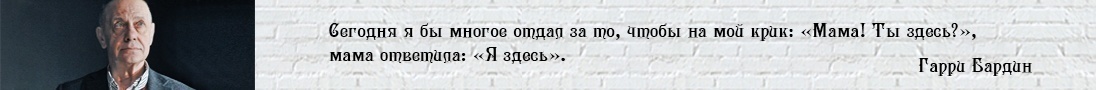











 Свободное копирование
Свободное копирование