Глава первая
Математик
1. Николай Васильевич Бугаев
Когда поворачиваюсь на далекое прошлое, то неким веяньем, как бы из подсознанья, сквозь образы, мне заслоняющие первые образы воспоминаний, их все упразднив, — поднимается тьма; силюсь в ней что-то высмотреть, силюсь довспомнить начальные прорези самосознания: сил не хватает. Тогда-то из бездн темноты мне выкидывается лишь образ отца.
Его влияние огромно: в согласиях, в несогласиях, в резких мировоззрительных схватках и в жесте таимой, горячей любви он пронизывал меня действенно; совпаденье во взглядах и даже полемика с ним определяли круг моих интересов; с ним я считался — в детстве, отрочестве, юности, зрелым мужем.
В детстве:
— «Откинется: весь подобрев, просияет, и тихо сидит; в большой нежности, — так: ни с того ни с сего: большеголовый, очкастый, с упавшею прядью на лоб, припадая на правый на бок как-то косо опущенным плечиком; и… засунувши кисти совсем успокоенных рук под манжетом к себе; накричался; и — тихо сидит, в большой нежности, — так, ни с того ни с сего; улыбается ясно, тишайше: себе и всему, что ни есть» («Крещеный Китаец», стр. 21).
Он поражал младенца кротчайшим лицом, просиявшим улыбкою; ведь некрасивый и часто свирепый на вид; кипяток: раскричится, — на весь Арбат слышно; а мы — не боимся; улыбка отца была нежная, просто пленительная; лицо — славное: не то Сократа, не то — печенега.
Вспоминая, писал о нем в молодые годы:
Ты говорил: «Летящие монады
В зонных волнах плещущих времен —
Не существуем мы; и мы — громады,
Где в мире мир трепещущий зажжен…»
Твои глаза и радостно, и нежно
Из-под очков глядели на меня.
И там, и там — над нивой
безбережной Лазурилась пучина бытия.
И всю жизнь, вплоть до этого мига, воспоминание об отце вызывает во мне строки, ему посвященные:
Цветут цветы над тихою могилой.
Сомкнулся тихо светлой жизни круг.
Какою-то неодолимой силой
Меня к тебе притягивает, друг.
Иные из жестов отца, его слов, афоризмов, весьма непонятных при жизни, вспыхивают мне ныне, как молньи; и я впервые его понимаю в том именно, в чем он мне был непонятен.
«Протертый профессорский стол с очень выцветшим серо-зеленым сукном, проседающий кучами книг…; падали: карандаши, карандашики, циркули, транспортиры, резиночки…; валялись листочки и письма с французскими, шведскими, американскими марками, пачки повесток…, нераспечатанных и распечатанных книжечек, книжек и книжиц от Ланга, Готье…; составлялись огромные груды, грозящие частым обвалом, переносимые на пол, под стол и на окна, откуда они поднимались все выше, туша дневной свет и бросая угрюмые сумерки на пол, чтобы… подпрыгнуть на шкаф, очень туго набитый коричневыми переплетами, и посыпать густо сеемой пылью обои потертого, шоколадного цвета и — серого папочку» («Крещеный Китаец», стр. 5).
«Он отсюда вставал; и рассеянно шел коридором, столовой; и попадал он в гостиную; остановившись пред зеркалом, точно не видя себя, он стоял и вычерчивал пальцем по воздуху знаки…» (стр. 6). «Домашний пиджак укорочен; кончается выше жилета; пиджак широчайше надут; панталоны оттянуты; водит плечами, переправляя подтяжки; подтянет — опустятся…» (стр. 7).
«… — Что вы такое? — окликнет его проходящая мама… Он — высунет голову и поморгает на мамочку робкими глазками, будто накрыли его.
— Ах, да я-с!
— Ничего себе…
— Так-с!
Барабанит ногами к себе в кабинетик, какой-то косой…
— Да, — идите себе…
— Вычисляйте»… (Ibidem).
Что отец мой был крупен и удивительно оригинален, глубок, что он известнейший математик, то было мне ведомо; поглядеть на него — станет ясно; и — все-таки: не подозревал я размеров его; «летящие монады… не существуем мы»; и он в нашей квартирочке, да и в других, очень часто, присутствуя, как бы отсутствовал; «и мы — громады, где в мире мир трепещущий зажжен»; был он просто огромен в иных из своих выявлений, столь часто беспомощных: быт, где он действовал, — карликовый: в нем ходил он, сгибаяся и представляя собою смешную фигуру; всегда отмечалось мне: странная связь существует меж нами, а разногласия все углубляются; но чем становилися глубже они, тем страннее друг к другу, сквозь них, мы влечемся, вперяясь друг в друга, как бы бормоча:
Я понять тебя хочу,
Темный твой язык учу.
Возмущался я: как может он говорить так, как он говорил об Ибсене; о… Кнуте Гамсуне:
— Ну-с, мой дружок, как твой «кнут»?
Возмущался и он, наблюдая меня:
«Да, мой голубчик, — ухо вянет:
Такую, право, порешь чушь!»
И в глазках крошечных проглянет
Математическая сушь.
Тем не менее наискось похаживая по столовой, мы мирно беседовали: о причинности в понимании Вундта, иль об энергии в пониманье Оствальда; вопрос за вопросом вставал:
Широконосый и раскосый
С жестковолосой бородой
Расставит в воздухе вопросы:
Вопрос — один; вопрос — другой.
Вдруг, с прехитрою, мне непонятной лукавостью:
— А знаешь, умная бестия этот твой Брюсов! Такие фразы, однако, срывались уже перед смертью, когда, задыхайся от припадка ангины, в своем перетертом халатике тихо полеживал он на постели, уткнув жарко дышащий нос в третий выпуск тогда появившихся только что «Северных Цветов».

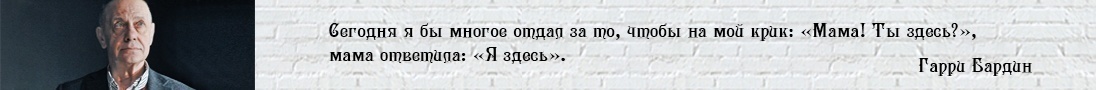











 Свободное копирование
Свободное копирование