20.11.1948
Москва, Московская, Россия
7
Из других серапионов Каверин, которого сам я потом хорошо знал по Переделкину, был по литературному направлению очень далек от моего отца (пожалуй, единственный из всех серапионов он начал с прямых подражаний Гофману, но потом ушел к обычной занимательной прозе). Меня занимали частично самим Кавериным потом напечатанные рассказы его о двадцатых годах и Тынянове, которого он боготворил. Тынянова я видел только раз перед войной, когда он провел у нас на Лаврушинском долгий день. Он пришел к Шкловскому, жившему в том же доме несколькими этажами выше, не застал того дома (Шкловский забыл об условленной встрече и пришел к нам только часа через четыре) и просидел весь тот вечер у нас. Меня поразил высокий тыняновский лоб. В тот раз он рассказывал о своем замысле вещи, героем которой должен был стать Ян д'Акоста, шут при дворе Петра Великого. Я не знал еще, что через несколько лет начну вчитываться в его книги, учась у него уже после его смерти, как подмастерье.
Шкловский формально не входил в число серапионов, но был с тех самых времен очень дружен с отцом. Он сам рассказал в своих воспоминаниях, как он по описанию Горького узнал отца на улице. А я от отца знаю об обстоятельствах их короткой встречи перед вынужденной эмиграцией Шкловского. В тот день утром отец в качестве главной новости на первой странице утренней петроградской газеты прочитал о раскрытии террористической эсеровской группы. Среди ее участников был назван Шкловский. Отец любил Шкловского и был очень опечален, думая, что тот арестован. Жизнь, однако, шла по-заведенному, и надо было идти в Госиздат получать гонорар. Войдя в издательство, отец в изумлении увидел у еще закрытого окошка кассы Шкловского, дожидающегося кассира. Он сидел на столе, болтая ногами. Понизив голос, отец спросил его: «Витя, это о тебе в газете?» — «Да — бодро отвечал Шкловский. — Ноя уже договорился, меня переведут через финскую границу. За это надо заплатить. А у меня нет денег. Поэтому я пришел сюда заранее, чтобы занять место в очереди». Все так и вышло. От Каверина я узнал, что бдительные чекисты в это время искали Шкловского в доме у Тынянова, где устроили засаду: сутки оттуда никто (в том числе и Каверин) не мог уйти. А тем временем окошко кассы открылось, вскоре Шкловский перешел через границу и оказался потом в Берлине, о чем сам написал в «Zoo». Эта книжка кончается его письмом во ВЦИК, где он просит дать ему возможность вернуться на родину и после этого не мстить ему (он вспоминает о виденных им во время войны в Месопотамии трупах курдов, которым рубили руку, поднятую для сдачи в плен). Отец считал, что это письмо в самом деле оградило Шкловского от возможности ареста (позднее на свободе оставались только такие защищенные старыми связями эсеры, как Екатерина Павловна Пешкова, жена Горького, и ее спутник и друг М. К. Николаев). Почему явно обреченных на гибель людей иногда щадила (или по русской безалаберности пропускала не заметив?) запущенная Сталиным машина террора, сказать трудно. Но Шкловский, после возвращения из эмиграции отстаивавший формализм от нападок марксистов (Ираклий Андроников рассказывал мне о публичном диспуте, на котором Шкловский ударил оппонента ботинком в пах, добавив, что формалисты знают, куда бить!), потом сломался. И не только в своих писаниях, почти всегда сохранявших, впрочем, остроту формулировок, но и в общественном поведении. Он участвовал не только в гонениях на Зощенко, но и порой присоединялся к общему поношению других своих друзей, в том числе и моего отца. Но ему обычно прощали, зная его неустойчивую истеричность, хорошо описанную Форш в «Сумасшедшем корабле». Нельзя было отказать ему в смелости. Он показал ее в Первой мировой войне. А во второй из великих войн отцу пришлось дежурить ночами на крыше на Лаврушинском вместе с другими писателями. Его поражало спокойствие Пастернака, ловко, как будто он копал в своем огороде.управлявшегося с зажигательными бомбами: он их ловил и лопатой отправлял в бочки с водой. Шкловский не выходил на крышу, а засыпал на чердаке на подушке, с собой принесенной, и не просыпался.
Ранние вещи отца Шкловскому очень нравились. На один из его юбилеев Шкловский прислал поздравительное письмо, где писал, что из всех вылетавших вместе одной стаей у отца были самые сильные крылья. Вскоре после возвращения из эмиграции Шкловский вместе с отцом написал фантастический роман «Иприт», совсем недавно (уже в эпоху реформ) снова переизданный. Для отца это было сознательное упражнение в построении сюжета. К остросюжетной литературе, ориентированной на западные образцы, призывал своих братьев-серапионов их рано уехавший за границу и там вскоре умерший собрат Лев Лунц, которого мой отец очень любил и часто вспоминал, виня себя в несчастье: отец предложил качать Лунца, все дружно качали, но уронили его; если хотите, страшноватый образ будущей судьбы Серапионова братства, поведения Федина и Тихонова по отношению к Зощенко. Уговоры Лунца и Шкловского по поводу желательности сюжетного построения на отца подействовали. Он и сам любил читать литературу приключений. Русское собрание сочинений Стивенсона было в заветном тюке, который я стерег во время эвакуации. А в бумагах отца по теории литературы, частично изданных посмертно, есть немало записей относительно построения сюжета (многие из этих мыслей я слышал от отца во время войны, когда он занимался ролью ошибки в художественном построении). Роман «У» отличается сложно сконструированным сюжетом или, скорее, пародией на него, в чем можно усмотреть влияние Шкловского и других формалистов. А Стерна — главный предмет разбора в «Теории прозы» Шкловского — отец перечитывал постоянно, считая его писателем для писателей. Розанова — другой объект занятий молодого Шкловского прозой со сложным построением — отец собрал у себя дома всего, и я с молодости перекормился его сочинениями — и удивительными, как «Опавшие листья», и омерзительными, как чудовищная книжонка об отношении евреев к крови; при всей его одаренности меня от него отталкивал какой-то тусклый провинциализм и безвкусица.
25.11.2025 в 12:02
|

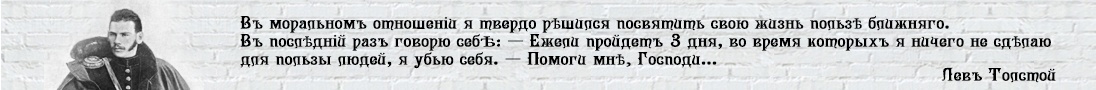











 Свободное копирование
Свободное копирование