17.08.1975
Ленинград (С.-Петербург), Ленинградская, Россия
С этой точки зрения поучительно вспомнить о трех ленинградских судебных процессах за последние двадцать пять лет: 1949-1974.
1949. Дело Ильи Сермана, историка русской литературы XVIII века, ученика Г.А.Гуковского. Его обвиняли в антисоветских настроениях. Судили дважды: в первый раз приговорили к десяти годам лагерей; этого показалось мало, и Сермана «пересудили». Во втором заседании свидетелем выступал его (наш общий) университетский приятель Евгений Брандис, настойчиво твердивший, будто бы Серман высказывал еврейско-националистические идеи: дескать, евреев в аспирантуру не берут, а ведь они от природы способнее к наукам, чем русские. Даже прокурор с сомнением спрашивал Брандиса, так ли именно говорил Серман? И настаивает ли свидетель на том, что обвиняемый вообще говорил на подобную тему? Ведь других свидетелей, подтверждающих эти показания, нет. Брандис настаивал. На сей раз Серман получил 25 (двадцать пять!) лет лагерей — показания Брандиса, одного Брандиса, прибавили ему пятнадцать лет. Если бы срок осуществился, Серман вернулся бы только теперь; к счастью, он и его жена были освобождены вскоре после смерти Сталина.
Социально-психологический феномен Брандиса меня давно интересовал. Евгений Павлович Брандис — не лишенный литературных способностей, порядочно образованный германист, искренне любивший поэзию, когда-то и сам писавший стихи, даровитый переводчик; впоследствии занялся историей и теорией научно-фантастической литературы, написал книгу о Жюле Верне, издавал и переводил его сочинения, руководил секцией писателей-«фантастов» в Ленинграде. Он, вероятно, не был «сексотом» или «стукачом», но, вызванный в Большой дом, смертельно струсил. О том, что наш приятель Брандис не отличается героическим характером, мы знали и прежде, во время войны это стало особенно очевидно, а после войны... После войны Брандис из малодушия совершил подлость. Им, однако, руководило — помимо трусости — еще и сознание безнаказанности: судебное заседание было закрытым; показания, данные в тех четырех стенах, наружу не выйдут; Серман приговорен к двадцати пяти годам лагерей — это вечность, за такой срок забывается любое преступление. Но главное: ни дело Сермана, ни участие в этом деле Брандиса не станет достоянием гласности. Ни пресса, ни радио, — никто, никогда, ничего. И в самом деле: прошло четверть века, и вот я, случайно выброшенный событиями на Запад, впервые в печати называю имя Брандиса. Впрочем, сказано неточно: это имя появлялось не раз — на книгах, в оглавлениях, в примечаниях, — как имя литературоведа и писателя. А люди должны бы его знать как имя если не полицейского провокатора, то, во всяком случае, активного пособника. Но стоял 1949 год, мы жили в изоляции. Нас уничтожали в темноте, в безмолвии.
07.01.2025 в 21:13
|

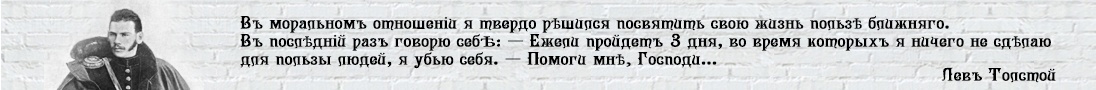











 Свободное копирование
Свободное копирование