С этого дня мать святая Софья стала пользоваться у меня огромным авторитетом.
Каждое утро она приглашала меня и сестра Мария, у которой я перед всем монастырем попросила прощения, осторожно расчесывала мне волосы в ее присутствии.
Сидя на маленьком табурете, я внимала матери-настоятельнице, которая читала вслух или рассказывала мне какую-нибудь поучительную историю. Ах, какая очаровательная женщина, мне так приятно вспоминать о ней.
Я обожала ее, как обожают в детстве существо, полностью завладевшее всеми вашими помыслами, не ведая как, не зная за что, даже не отдавая себе в этом отчета, просто поддавшись непобедимым чарам.
Только потом я сумела понять ее и не уставала восхищаться ею. Я разгадала неповторимую, излучающую свет душу этой святой женщины, скрытую под оболочкой смеющейся коротышки.
Я полюбила ее за все, что она сумела пробудить во мне благородного. Полюбила ее за письма, которые она мне писала и которые я часто перечитываю. Полюбила потому, мне кажется, что, несмотря на все свои недостатки, я была бы еще во сто крат хуже, если бы мне не довелось узнать и полюбить это чистейшее создание.
Один-единственный раз я заметила ее суровость и внезапно почувствовала обуревавший ее гнев в маленькой комнатке, расположенной у входа в ее келью и служившей гостиной, висел портрет молодого человека, на прекрасном челе которого лежала печать некоего благородства.
— Это император? — спросила я.
— Нет, — молвила она, с живостью обернувшись. — Это король! Генрих V.
Лишь много позже я поняла причину ее волнения. Монастырь был роялистский. А Генрих V — признанным монархом[1].
Зато к Наполеону III там испытывали глубочайшее презрение, а посему в день крещения наследного принца нам не дали положенных конфет да к тому же еще лишили свободного дня, объявленного во всех пансионах, лицеях и монастырях.
Я политикой совсем не интересовалась и была счастлива в монастыре благодаря матери святой Софье.
К тому же меня так полюбили мои подружки, что нередко писали за меня сочинения.
К учению у меня не было особой склонности, но мне нравились уроки географии и рисования. Арифметика сводила меня с ума. Орфография нагоняла тоску, пианино вызывало отвращение. Я по-прежнему страдала робостью, и, когда меня неожиданно вызывали отвечать, я терялась.
У меня была страсть к животным, и я носила с собой в картонных коробочках или в маленьких клетках, которые сама сооружала, ужей — у нас в лесах их было полным-полно, — либо сверчков на листьях лилий, или ящериц с вечно оторванными хвостами, потому что, желая удостовериться, едят ли они, я чуть-чуть приподнимала крышку коробки. Заметив это, мои ящерицы устремлялись к отверстию, а я, покраснев при виде такой самонадеянности, быстро захлопывала ее, и крак — справа или слева обязательно оставался чей-нибудь хвост. После этого я часами не могла успокоиться. И пока сестра, рисуя на доске какие-то знаки, объясняла нам метрическую систему, я с хвостом ящерицы в руке размышляла над тем, как бы приклеить его обратно.
В маленькой коробочке я держала жучков, а в клетке, которую смастерил мне из металлической сетки отец Ларше, — пять пауков. Не ведая жалости, я кормила своих пауков мухами, а те, такие толстые и упитанные, неустанно работали, ткали свою паутину. И часто во время перемены мы, десять-двенадцать девочек, собирались вокруг клетки, стоявшей на скамейке или на пеньке, и наблюдали за удивительной работой этих крохотных существ. Узнав, что кто-то из подруг порезался, я с важным видом подходила и с гордостью говорила: «Пошли, я перевяжу тебе палец, у меня есть совсем свежая паутина». И, вооружившись малюсенькой, тоненькой палочкой, собирала с ее помощью паутину, которой с самым серьезным видом обматывала пораненный палец. «А теперь, госпожи Паучихи, придется вам снова поработать!» И госпожи Паучихи рьяно принимались за свою кропотливую работу.
Я пользовалась некоторым авторитетом. Меня выбирали арбитром, когда дело касалось спорных вопросов. Мне делали заказы на приданое для бумажных кукол.
В ту пору соорудить манто из горностая с палантином и муфтой мне ничего не стоило. И это вызывало восхищение всех моих подружек. За свое приданое, в зависимости от его ценности, я брала плату: два карандаша, пять перьев или два листка белой бумаги.
Словом, теперь я стала личностью, и это тешило мое детское самолюбие.


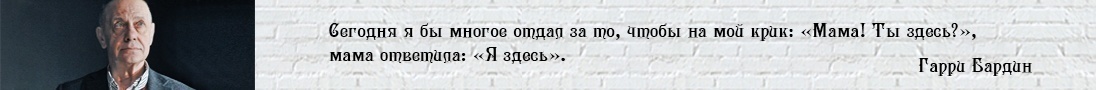











 Свободное копирование
Свободное копирование