Я помню. Глава 19 Марина Цветаева
Каждый день, когда я не писала стихов, и каждый год, когда не породила ребёнка, я чувствую потерянным. Как мало потерянных дней. Как много потерянных лет. Марина Цветаева.
Давно хотела провести вечер памяти М. Цветаевой. Вышел уже долгожданный двухтомник её стихов в 1980 году под редакцией А. Саакянц.
Но на сцене не разрешали проводить вечер. Наконец, с трудом упросила начальство разрешить провести вечер памяти М. Цветаевой хотя бы в Малом зале.
29 ноября 1982 года был объявлен этот вечер. Сцену украшала ветка рябины, которую так любила Марина Ивановна.
Откуда столько людей прознали о вечере? Билетов было разослано немного, но мест не хватало, сидели на сцене, на полу. У отрытых дверей была толпа не попавших в зал зрителей.
Вела вечер Л. Либединская. Выступавшие писатели, артисты рассказывали о трагической судьбе поэта, о последних ее днях в Елабуге. Выступления были откровением, горечь и сожаление чувствовали зрители.
На приглашении был написан эпиграф:
"Золото моих волос
Тихо переходит в седость.
Не жалейте! Всё сбылось,
Всё в груди слилось и спелось".
За три дня до войны при встрече с Лидией Борисовной Либединской, Марина Ивановна говорила, что фашизм страшнее любого татарского ига. Лидия Борисовна охарактеризовала поэзию М. И. Цветаевой.
Русская советская поэтесса. Трагический поэт-романтик, воспевала любовь-разлуку, ненавидела буржуазность и мещанство, провозглашала торжество "одинокого духа" Поэта в его борьбе с "роком".
Поэзия Цветаевой эволюционировала от простых, напевных, классически ясных форм к более экспрессивным, стремительным ритмически изощрённым; язык лирики 30-х гг. афористичен, каждое слово предельно насыщено смыслом и чувством.
О жизни и судьбе М. И. Цветаевой рассказывали М. Алигер, А. Саакянц, Л. Мнухин, Е. Пастернак.
Звучали стихи Марины Ивановны в исполнении Антонины Кузнецовой.
Тоска по родине!
Давно
Разоблаченная морока!
Мне совершенно все равно,
Где -- совершенно одинокой
Быть, по каким камням домой
Брести с кошелкою базарной
В дом, и не знающий, что мой,
Как госпиталь или казарма...
Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И все равно, и все едино.
Но если по дороге куст
Встает, особенно -- рябина!..
Зал замер, когда Евгений Борисович Пастернак говорил о последних мытарствах поэта в Елабуге.
Дмитрий Журавлев, Наталья Журавлева, Антонина Кузнецова читали стихи М. Цветаевой.
В исполнении Наума Штаркмана звучала прекрасная музыка. Она как бы сливалась со стихами поэта.
Лев Мнухин рассказал о том, что когда вернувшаяся в страну Марина Ивановна Цветаева составила сборник стихов и отдала его в "Советский писатель"с надеждой, что он будет напечатан, сборник попал в руки к образованному и продажному литературоведу Корнелию Зелинскому. Он был известен и знаменит в те годы.
Воздавая должное талантливому поэту, он писал:
"Истинная трагедия Марины Цветаевой заключается в том, что, обладая даром стихосложения, она в то же время не имеет что сказать людям.
Поэзия Марины Цветаевой потому и не гуманистична и лишена подлинно человеческого содержания. "
Он погубил сборник, написав, что в советской культуре нельзя издавать идеологически не выдержанную книгу.
Может быть, если бы сборник был напечатан, Марина Ивановна не покончила бы жизнь самоубийством.
Один из читателей спрашивал о том, кто принимал участие в продвижению поэзии М. Цветаевой к читателю в предыдущие годы до появления двухтомника?
Из ответа ведущего зрители узнали о том, как много сделал для этого А. Т. Твардовский.
Еще в 1960-ом году он отстаивал издание ее стихов в серии "Библиотека поэта", членом редколлегии которой он был.
На первое советское издание М. Цветаевой (после 1922года) была опубликована рецензия А. Твардовского с самой высокой оценкой ее поэзии ("Новый мир", 1962, №1)
В 1969 году в "Новом мире " в 4-ом номере была опубликована большая подборка писем М. Цветаевой.
В дневнике, делая выписки из них, Александр Трифонович отмечал близость к ее "символам веры".
В поэзии М. Цветаевой он ценил любовь к жизни, "боль сердца", глубокую эмоциональную силу", подлинность "живой, а не искусственной речи". Он отмечает трагизм ее поэзии. В стихотворной речи его трогает затрудненная, местами пунктиром замененная строфа. Он отмечает эту необыкновенную выразительность, обозначенную тире.
Помню вопросы: "Была ли Цветаева верующим человеком?", "Понимала ли она, возвращаясь в СССР, что её ждёт, какое это государство?".
Ответы были такими: " Марина Ивановна не была церковно-верующим человеком", "Она очень хорошо понимала, в какую страну едет, но хотела быть рядом с мужем Сергеем Яковлевичем". Она ехала вопреки своему желанию жить в СССР, но прежде уехала дочь, сочувствовавшая революции.
К сожалению, я не вела записей. Прошли годы, публикации о Цветаевой появлялись в печати, я узнавала новые факты о жизни, о посмертной судьбе поэта.
Сейчас можно найти много неизвестного тогда, много щемящего сердце сведений.
Из посмертных записок М. Цветаевой:
Сыну: Мурлыга!Прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что больше не могла жить. Передай папе и Але- если увидишь- что любила их до последней минуты и объясни, что попала в тупик.
Были записки Асеевым и "эвакуированным". Записки содержали просьбы-позаботиться о сыне.
В записке к "эвакуированным" есть приписка: "Не похороните живой! Хорошенько проверьте. "
Однажды, попала мне в руки книга В. Каверина "Перед зеркалом"
Очень интересная книга, посвященная русской эмиграции. Долго пыталась разгадать я о ком написана эта книга, основанная на реальной переписке. Позже обнаружила, что под именем Ларисы Нестеровой выведена и Марина Цветаева.
Ариадна Эфрон-дочь поэта поделилась с В. Кавериным своими воспоминаниями.
Так постепенно все больше узнаем мы о своем времени.
Сейчас вышел двухтомник дневников сына Цветаевой – Георгия Эфрона – "Мура". Он оставил достоверное и глубокое повествование о своём времени и малоизвестных фактах жизни своей семьи. Погиб он в 1944 году, так же, как и его безымянный ровесник из стихотворения Твардовского:
"Я не помню разрыва,
Я не видел той вспышки,
Словно в пропасть с обрыва,
И ни дна, ни покрышки.
И во всём этом мире
До скончания дней
Ни петлички, ни лычки
С гимнастёрки моей".
Он жил с 1925 по 1944 год.
В те годы привыкли люди слушать и читать скрытое, недосказанное. Соглядатаев и стукачей было много и, хоть были у выступавших какие-то недоговорённости, зрители всё понимали.
Несмотря на всю осторожность, кто-то настучал. Начальство с отчётом об этом цветаевском вечере вызывали в райком партии.
Тем не менее, директор просил меня повторить вечер в Большом зале, его одолевали зрители, не попавшие на вечер. Я отказалась. Вечер – это не спектакль, который с небольшими изменениями повторяется долгий период. Вечера неповторимы. Никто не готовит записи. Это устные рассказы, общение со зрителями, многое возникает спонтанно. Все зависит от личности выступающего человека и от реакции зала. Вот тут уж нельзя промахнуться.
"Сегодня масштабы Цветаевой, личности и поэта, не примкнувшей ни к одному литературному течению, не влившейся ни в одну литературную тусовку, очевидны: первый поэт всего ХХ века, как сказал о Цветаевой Бродский. Но это стало очевидно сегодня, современному читателю, пережившему опыт Маяковского, Вознесенского, Рождественского, Бродского. А многие современники поэта относились к «телеграфной», экзальтированной манере Цветаевой более чем скептически, с нескрываемым раздражением.
Даже эмиграция, где поначалу ее охотно печатали многие журналы и где она по-прежнему держалась особняком, сыграла с ней злую шутку: «В здешнем порядке вещей Я не порядок вещей. Там бы меня не печатали — и читали, здесь меня печатают — и не читают». Сказать, что при жизни Цветаеву не оценили по достоинству — не сказать ничего. И вряд ли дело было только лишь в одной готовности-неготовности принять столь новую, столь экстравагантную манеру.
Отнюдь немаловажным было то, что Цветаева была сама по себе, одна, причем одна демонстративно, принципиально не желая ассоциировать себя с различными группками «своих-не своих», «наших-не наших», на которые была разбита вся русская эмиграция.
Двух станов не боец, а — если гость случайный —
То гость — как в глотке кость, гость —
как в подметке гвоздь.
И на это тоже намекала Цветаева в том своем стихотворении. «Не с теми, не с этими, не с третьими, не с сотыми… ни с кем, одна, всю жизнь, без книг, без читателей… без круга, без среды, без всякой защиты, причастности, хуже чем собака…», — писала она Иваску в 1933 году.
Не говоря уже о настоящей травле, о бойкоте, который объявила Цветаевой русская эмиграция, после того как обнаружилась причастность ее мужа Сергея Эфрона, к НКВД и политическому убийству Игнатии Рейсса.
Особенно последовательны в своих критических нападках были Адамович, Гиппиус и Айхенвальд. Адамович называл поэзию Цветаевой «набором слов, невнятных выкриков, сцеплением случайных и кое-каких строчек» и обвинял ее в «нарочитой пламенности» — весьма симптоматичной была их перепалка на открытом диспуте, где в ответ на цветаевское «Пусть пишут взволнованные, а не равнодушные», Адамович выкрикнул с места: «Нельзя постоянно жить с температурой в тридцать девять градусов!».
Не признавал Цветаеву и Бунин. Но особенно в выражениях не стеснялась Зинаида Гиппиус, писавшая, что поэзия Цветаевой — «это не просто дурная поэзия, это вовсе не поэзия» и однажды бросившая в адрес поэта эпиграф «Помни, помни, мой милок, красненький фонарик…»: это самый красный фонарь, по мнению Гиппиус, следовало бы повесить над входом в редакцию журнала «Версты», который редактировала Цветаева, так как сотрудники редакции, как считала Гиппиус, прямым образом были связаны с «растлителями России».
Более чем иронично относился к Цветаевой Набоков, однажды, подражая ее экзальтированной манере, написавший на нее пародию, которая, принятая за чистую монету, позже была опубликована под именем самой Цветаевой:
Иосиф Красный — не Иосиф
Прекрасный: препре-
Красный — взгляд бросив,
Сад вырастивший! Вепрь
Горный! Выше гор! Лучше ста Лин-
дбергов, трехсот полюсов
светлей! Из-под толстых усов
Солнце России: Сталин! "
Материал взят из статьи Софьи Гольдберг. "Марина Цветаева.
Душа, не знающая меры".
И ещё одно стихотворение ПОЭТА :
Я утверждаю, что во мне покой
Причастницы перед причастьем,
Что не моя вина, что я с рукой
По площадям стою — за счастьем.
Пересмотрите всё мое добро,
Скажите — или я ослепла?
Где золото мое? Где серебро?
В моей руке — лишь горстка пепла!
В дополнение к очерку хочу обратить внимание читателей на одну рецензию:
«Я помню. Глава 19 Марина Цветаева» (Майя Уздина)
Дорогая Майя, как же мне радостно читать о Вашем подвижничестве и Вашей смелости донести гениальное слово Марины Цветаевой до читателей и слушателей в те не простые времена, когда за меньшие
"проступки" советская безжалостная машина "стирала людей в порошок".
У меня - своя любовь к самой Цветаевой и к её творчеству.
Каюсь, что до сих пор не знаком и с половиной её творческого наследия - это огромный мир, целая планета, во многом, не исследованная...
Моё знакомство с поэзией Марины Цветаевой случилось несколько лет назад. С тех пор мною перечитано много её стихов, есть и любимые.
Генрих Эльштейн-Горчаков посветил многие годы своей жизни исследованию поэзии М. Цветаевой и считается по праву, одним из знатоков её поэтического наследия.
Мне удалось прочесть его книгу "Тайны поэзии". В предисловии книги сам автор пишет о себе и своей судьбе. Среди прочего, Генрих подчёркивает:" Главный мой интерес - это творчество Цветаевой".
Вероятно, я тоже сумел "заразиться" этим интересом и с жадностью
узника, вышедшего на волю, впитывал всё, что мне было доступно по этой теме.
Не стану пересказывать эту замечательную книгу и рекомендую её прочесть всем любителям и почитателям творчества великого поэта.
В прошлом году в нашем афульском литературном объединении прошли
"Цветаевские вечера". Лия Борисовна Горчакова-Эльштейн провела их в своей неповторимой артестичной манере, тонко и пронзительно.

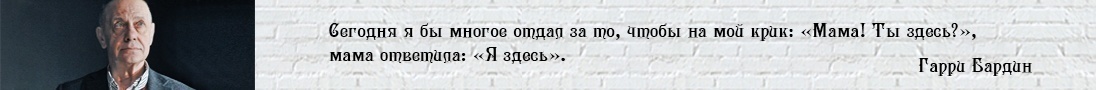












 Свободное копирование
Свободное копирование