|
|
Кроме Зыбиных и Мансуровых, ближайшими нашими соседями были Борисовы, проживавшие в родовом имении Фатьянове, верст за 10 от Новоселок. Низменный, рецептом протянувшийся, деревянный дом, с несоразмерно высокою тесовою крышей, некрашеный и за древностью принявший темно-пепельный цвет, выходил одним фасадом на высоком фундаменте в сад, а с другой стороны опускался окнами чуть не до земли. Комнат средних и малых размеров в длину было много, начиная с так называемой приемной, в которой помещался шкаф с книгами, и кончая самой отдаленной кладовою, куда красивая хозяйка Марья Петровна собственноручно убирала варенье и всякого рода бакалея. Кроме специального кабинета хозяина Петра Яковлевича, комнат требовалось немало для семерых детей с их няньками и мамками и соответственным числом горничных. На том же дворе под прямым углом к старому дому стоял так называемый новый флигель, в котором в трех комнатах проживала мать владельца, добродушная старушка Вера Александровна. Она появлялась за домашний общий стол, но, кроме того, пользуясь доходами небольшого болховского имения, варила собственное сахарное и медовое варенье, которым чуть не ежедневно угощала многочисленных внуков, имена которых решаюсь выставить в порядке по возрасту: Николай, Наталья, Петр, Александр, Екатерина, Иван, Анна. Все окрестные помещики считали Петра Яковлевича весельчаком и неистощимым шутником и забавником. По своему уменью попасть в тон каждого, по щедрости, с которою он совал деньги чужой прислуге, что в те времена не было в обычае, он был всеми любим, за пределами собственного дома, в котором за все проигрыши и неудачи искал сорвать сердце на первом встречном. Конечно, такой балагур в обществе не затруднялся позабавиться насчет заочного лица У Зыбиных под домом была великолепная купальня, в которой растолстевший до невозможности Дмитрий Александрович в летние жары искал прохлады Борисов уверял, что перед Зыбиным в купальне на доске графин и рюмка. «Выпьет рюмку и окунется…» Нет безумия, затеи, проделки, шутки, которой бы Петр Яковлевич не способен был предаться с полным увлечением, лишь бы на то хватило у него материальных и нравственных средств. Надо ему отдать справедливость, что он обладал комическим талантом, заставлявшим смеяться даже наименее сочувствовавших его проделкам. В те времена многие из духовенства отличались невоздержностью к крепким напиткам. И вот этот-то порок сельского попа был поводом Борисову к много численным проделкам во время праздничных посещений причта. Так, напоив попа, Петр Яковлевич приказывал украсть вороную кобылу, а сам между тем одобрениями и насмешками доводил его до решимости стрелять в цель из двуствольного ружья, устраивая так, что пьяному приходилось стрелять из левого ствола, обращенного кремневого полкою к стрелявшему. На эту полку незаметно клали косу попа и, присыпав ее порохом, закрывали огниво. — Ну, целься, батька, хорошенько! — говорили окружающие. И вслед за тем раздавался гром холостого, но двойного заряда, и приходилось тушить волосы неудачного стрелка, который вопил: «Сжег, спалил, разбойник! Сейчас еду к преосвященному с жалобой!» Но тут подходил дьячок с известием, что вороная кобыла пропала. — Что же, поезжай, коли на то пошло, — говорил Петр Яковлевич, — тут всего верст тридцать до Орла. Украли кобылу, так мои Разореные тебя духом домчат. Разореными Петр Яковлевич называл шестерик бурых лошадей, на тройке которых он всюду скакал по соседям. По данному знаку тележка, запряженная тройкою Разореных с отчаянным кучером Денискою на козлах, подкатывала под крыльцо, и челобитчик во весь дух мчался на ней за ворота. Но так как у тележки чеки из осей были вынуты, то все четыре колеса соскакивали, и жалобщик, после невольного сальто-мортале, возвращался во двор с новым раздражением и бранью. Тогда хозяин начинал его уговаривать, доказывая, что никто не виноват в его неумении обращаться с огнестрельным оружием, что с Дениски взыщется за неисправность тележки, и что в доказательство своего благорасположения он готов подарить попу кобылу, которая нисколько не хуже его прежней, хотя и пегая. Конечно, благодарности не было конца; и только на другой день по приезде домой одаренный убеждался, что вернулся на собственной кобыле, разрисованной мелом. Смутно помню, как однажды, собрав у нас вокруг себя мужскую молодежь, Борисов читал вслух запрещенную рукописную поэму «Имам-козел». Все смеялись содержанию, состоявшему, если память мне не изменяет, в том, что корыстолюбивый Имам, желая напугать правоверных ликом дьявола, надел свежую шкуру убитого козла, которая приросла к нему и сделала его общим посмешищем. Постепенно увеличивающаяся тучность Зыбина привела его к роковому концу. Однажды, когда мать повторяла со мною какой-то урок, вошел буфетчик Павел Тимофеевич и доложил в неизменной форме о просьбе соседа дозволить половить рыбы под нашим берегом Зуши: «Дмитрий Александрович приказали кланяться и о здоровье узнать, приказали просить дозволения рыбки половиться и приказали долго жить». — Неужели скончался? — спросила матушка, поднося платок к глазам. — Точно так-с, сегодня в пять часов утра. Жена Борисова, Марья Петровна, была весьма красивая женщина, умевшая расположить к себе интересного и влиятельного человека. При небольших средствах и постоянном безденежье безалаберного мужа она умела придать своему гостеприимству показной вид. Что же касается до домашних приготовлений, которых в те времена бывало очень много, начиная с маринованных грибов и рыб до разных солений и варений, — то в настоящее время они бы смело попали на выставку. Конечно, наша мать употребляла все усилия, чтобы сравняться в этом отношении с искусною соперницей. Напрасно добрейшая жена приказчика Никифора Федоровича, белая и румяная ключница Авдотья Гавриловна, утешала мать мою, говоря: «Матушка, не извольте беспокоиться об наших огурцах! подлинно они не хуже борисовских, но ведь у нас я подаю их рядом, а у них, когда вы пожалуете, так длинным деревянным ковшом всю кадку до самого дна перероют; все ищут огурца, чтобы был как стеклянный». Даже по части детских игр дом Борисовых отличался разнообразием. У детей была колясочка на рессорах, отделанная совершенно наподобие большой; няньки и дети сами возили ее по саду. А у первого сына Николеньки, старше меня на два года, был небольшой клепер[1], с остриженною гривой и подрезанным хвостом. Старшая дочь Наташа, весьма красивая девочка, была должно быть несколько моложе меня. Петр Яковлевич, в один из наших приездов, уверял, что в коляску надо заложить клепера и посадить в нее меня с Наташей — жениха и невесту; мне дать в руки трубку, а ей веер. Помню, в какой восторг однажды пришел наш отец, которому ловкий Петр Яковлевич сумел с должным выражением рассказать, как мы с сестрою Любинькой посаженные за детским столом в отдельной комнате, отказываясь от сладкого соуса к спарже, сказали: «Это с сахаром, нам этого нельзя». Конечно, отцу и в голову не приходило, какое чувство унижения он вселял в мое сердце, выставляя меня перед сторонними детьми каким-то парием. Тут дело было не в ничтожной сласти, а в бесконечном принижений. О, как осторожно надо обращаться с чувствами ребенка! У Борисовых детей были игрушки, которых я ужасно боялся. Это было собрание самых безобразных и страшных масок, с горбатыми красными носами и оскаленными зубами. Страшнее всего для меня были черные эфиопы с бровями из заячьего пуху. Хотя я и видел с изнанки простую бумагу, но стоило кому-нибудь надеть эфиопа, и я убегал, подымая ужасный крик. Мне было, должно быть, около десяти лет, когда молодой Дмитрий Михайлович Мансуров женился на одной из дочерей богатых Сергеевых. Большое состояние Сергеевых, как я впоследствии узнал, шло от Лутовиновых, которые выдали двух единственных дочерей, одну за Сергеева, а другую за Тургенева. Конечно, Мансуров женился не по любви, так как девица Сергеева, кроме несколько тяжеловесной полноты, была и хрома, чего не могла скрыть и поддельным каблуком. На свадебном обеде мать моя была одною из почетнейших гостей, но мне лично живо помнится этот обед потому, что в ряду тесно сдвинутых стульев пришлось сидеть между большими, и очень хотелось полакомиться прекрасно зарумяненными дупелями; но так как локтей поднять было невозможно, то у меня не хватило силы резать жаркое, и я напрасно щипал вилкой небольшие пряди мяса, которые удавалось оторвать. В то время рояли еще не были распространены, и полновесную новобрачную упросили сыграть на фортепьяно. Слушатели разместились в зале, а Борисов, ставши перед матерью моей за дверью гостиной, представлял руками месящую тесто; в этих телодвижениях нельзя было не увидать сходства с игравшею. Мать моя, без малейшей улыбки, старалась не глядеть на проказника. В доме Мансуровых, кроме свадьбы, случились и похороны: скончался ученый отшельник Александр Михайлович, давший вольную своему крепостному слуге Сергею Мартыновичу и завещавший ему весь свой гардероб. Вероятно, хорошая слава трезвого и усердного Сергея Мартыновича побудила отца нанять его в качестве дядьки при мне. Я давно уже спал на кровати в классной, и новый мой дядька на ночь, подобно остальной прислуге, приносил свой войлок и подушку и расстилал его на ночь. |

|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|

|
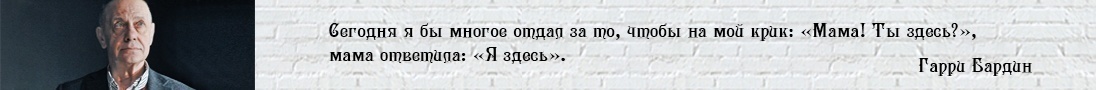











 Свободное копирование
Свободное копирование