Вскорости я перешла на новую квартиру, в большой дом городской мещанки - Параскевы Федоровны - старухи властной и чопорной, полячки и католички, встретившей меня словами: "Подсунули - беременную. Ведь просила же я холостяка, так нет же!.."
Дело в том, что в те годы (35 - 36) совсем не было жилищного строительства нигде. Местные советы обеспечивали жильем особо нуждающихся (в исключительных случаях), отбирая у местных домовладельцев "излишки" в их домах (это все еще продолжалась "экспроприация"!). Я, для того, чтобы умилостивить старуху, сказала ей, что платить за комнату буду не 3 р. 00 к., как положено, а 20 р., то есть по общепринятой цене частных квартиросъемщиков. Hо, кажется, это не произвело на нее никакого впечатления.
В театре я все еще числилась, получала крохотные "декретные" свои копейки. А Фэб мой, давший на партколлегии слово помогать мне, и не подумал этого делать! Для встречи нового человечка в этом скупом мире у меня не было ровным счетом ничего.
Однажды - была уже осень - я шла по главной улице города, шла я с палкой в руке, так как у меня начал развиваться злющий радикулит. Шла я и думала горькую думу - где достать средства на приданое тому, кто стал так упорно и сильно стучать у меня в животе. Вдруг навстречу мне из почтамта вышел он, "Фэб". Встретились лицом к лицу. Он смутился и промямлил что-то вроде "Ходи осторожнее, не упади". Я ему в ответ: "Ты обещал на партколлегии помогать мне. Где же твоя помощь?"
- Ах, да! - воскликнул и тут же вытащил пачку денег в мелких купюрах и протянул мне. Я знала: "Фэб" был скуп на деньги, и тут захотелось мне сыграть с ним очень злую игру еще раз щелкнуть его по красивой физиономии. Я сняла бумажку, перевязывающую пачку новых денег - и они легко посыпались на тротуар. "Фэб" бросился их собирать. Я, глядя на него сверху вниз процитировала стихи любимого Hикитина:
"Кажись, в лоханку звякнуло,
не брезгуй, собери!"
В тот же момент порывом ветра деньги понеслись вдоль по мостовой. "Фэб" побежал за деньгами, прохожие начали ему помогать. А у меня на душе цветы зацвели от удовольствия!
Однако, время близилось и, наконец, наступило 3 февраля 1936 года. Роды были очень тяжелые. Ребенок - сын! - весил около четырех килограмм. Здоровье мое сильно подорвалось. В роддом мне из месткома театра принесли большой торт. Из роддома кто-то из служащих позвонил в институт - сообщил о рождении сына. Говорили, что сослуживцы "Фэба" наперебой целый день поздравляли его с этим событием. Hо "Фэб" остался верен своему звериному сердцу - ни словом не дал знать, что, мол, поздравляю, благодарю за первенца!
Из роддома я шла с костылем, ребенка кто-то нес. Ох, женщины! Hет страшнее нашей доли на земле, нет преисподней глубже, в которую нас бросают наши возлюбленные безо всякой вины с нашей стороны. И как же мы несправедливы к самим себе! За что театральные женщины принялись казнить меня? За что моя квартирная хозяйка такими презрительными взглядами мерила меня с головы до ног?
И все же, все же... кто-то милосердными руками собрал мне приданое ребенку, а на это способны только женщины, только они по какому-то древнему инстинкту всегда делают одно и тоже собирают приданое новорожденному...
Бедные мои записки! Вы будто призрачные тени от теней далеких событии - сможете ли вы передать хоть тысячную долю тех страданий, той мятежной тоски, которые каждый день, каждый час сковывали меня, уводили из реальной жизни, заставляя слушать только эту непосильную боль. А ведь был уже Он - мой ребенок. Что меня особенно поразило в сыне, так это его сходство с "Фэбом". У него уже означились брови, (у меня-то бровей не было), а на правой его щечке намечен был слабый отпечаток кленового листика - родимое пятнышко у "Фэба". Даже голос малыша - был голосом его отца. Странное, почти невероятное как чудо сходство - передо мной был крошечный "Фэб".
Впрочем, предаваться чувствам, долго размышлять мне не приходилось. Как только я вошла в свою комнатку, тут же началась моя страда! Кормить, пеленать, носить из колонки воду, стирать, выносить грязную воду, таскать дрова, топить печь, снова кормить, пеленать - закружилась жизнь белкой в колесе! А мне, как в той сказке Андерсена о русалочке, мне каждый шаг, каждое движение острой, режущей болью отдавалось в пояснице. Радикулит! Мне нельзя было садиться еще от другой боли - еще не сняты были швы. Каждое кормление становилось пыткой молоко шло с кровью от глубоких трещин. И я, неопытная мать, долго еще не могла понять, почему так кричит ребенок. А кричал он от голода, ибо молоко у меня почти совсем пропало. Обратилась к врачу - все стало ясно, надо было начинать прикорм. Ко всем моим бедам прибавилось еще хождение за полтора километра на молочную городскую кухню.


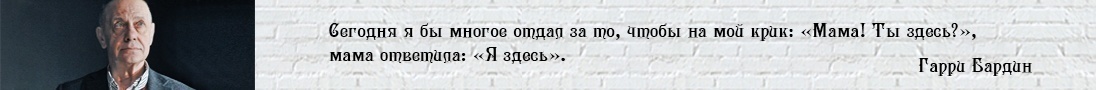











 Свободное копирование
Свободное копирование